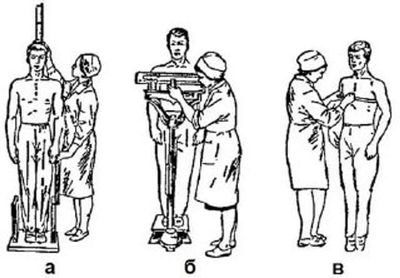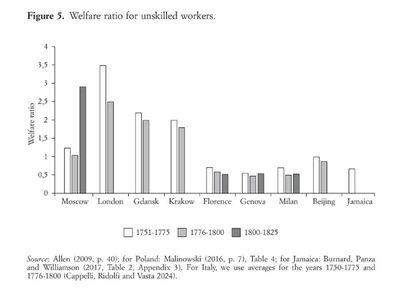Зарисовка о сельском алкоголизме в Молдавии в 60-е (из воспоминаний детского врача Владимира Цесиса, эмигрировавшего в середине 70-х):
«Вино в деревне, где я работал, было дешевым и легко доступным даже для самых бедных: виноград был одним из
главных успешно культивируемых сельскохозяйственных продуктов. Во время сбора винограда вино выдавливали
прессом почти в каждом доме, и количество произведённого вина намного превышало его спрос.
Вино первой давки называлось муст. Поскольку муст был сладким, его было легко пить, и от него было легко
опьянеть. Во время давки винограда, вина было так много, что им пользовались как водой (не только для людей, но и для
животных). В этот период случайный посетитель деревни мог своими глазами наблюдать собак и кошек, кур и уток, гусей и овец, двигающихся в разных направлениях на неустойчивых ногах, лапах или лапках.
Жертв алкоголя — в основном это были мужчины, реже женщины — можно было наблюдать повсюду. Начало винного сезона, как правило, знаменовалось появлением в вечернее время двух больших колёсных тракторов, часами с воем разъезжающих на шоссе Тирасполь-Дубоссары. Устраивая подобные автогонки, братья Димитриу и Иван Кодряну демонстрировали селу, что вино не производит на них побочных эффектов, и что они просто переполнены joie de vivre — радостью жизни и этим делятся с односельчанами.
— Это у нас в селе такая традиция, — сказал мне один колхозник, пытавшийся вместе со мной безопасно перейти
дорогу, по которой шныряли взад и вперёд "гоночные" тракторы. — Что поделаешь — молодые люди. В своё время
отец и дядя Димитриу и Ивана так же гоняли тракторы, пока не столкнулись на большой скорости и не попали в
больницу с солидным сотрясением мозга. С тех пор они на инвалидности.
Другим верным признаком сезона всеобщего пьянства было явление под названием "бегущая женщина" —
термин, которым пользовались медицинские работники, при виде полуодетой распатланной женщины бегущей стрелой
по дороге, ведущей в больницу. Непосвящённый мог бы подумать, что эта женщина готовится к марафонскому бегу, но
это было совсем не так. "Бегущие женщины" пользовались больницей в качестве убежища от их в доску пьяных мужей.
В тот момент, когда «бегущая женщина» появлялась в металлических всегда открытых воротах больницы, с абсолютной точностью можно было предсказать, что очень скоро появится и её муж. У мужа, преследующего жену, в руках неизменно был топор, которым он размахивал как саблей. В больнице эти бедные женщины получали приют, временный покой и — если необходимо — немедленную медицинскую помощь. Во время массового запоя в деревне для женщин — жертв семейного насилия — была отведена отдельная палата на шесть коек.
Желая узнать побольше о жертвах семейного насилия, я приходил поговорить с ними во время моих
круглосуточных дежурств. Лица, тела и конечности этих женщин были покрыты следами недавних побоев. Такие понятия
цивилизованного мира, как феминизм и уважение прав человека, были столь же не известны в селе, как, скажем,
термины космической технологии. В ответ на мои вопросы о том, почему их избили, и что они собираются делать в
будущем, женщины отвечали смущенным молчанием и кривыми улыбками на их преждевременно состарившихся
лицах. В основном они не желали говорить на эти темы, но всегда находились одна или две, от которых я слышал
такие невероятные ответы, как: "Если он бьёт, значит, любит", или "Наверное, было за что!", или "Так всегда было в нашей деревне"».
(Цесис В. А. Советское здравоохранение на задворках империи. Записки сельского врача. СПб., 2016).