
Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
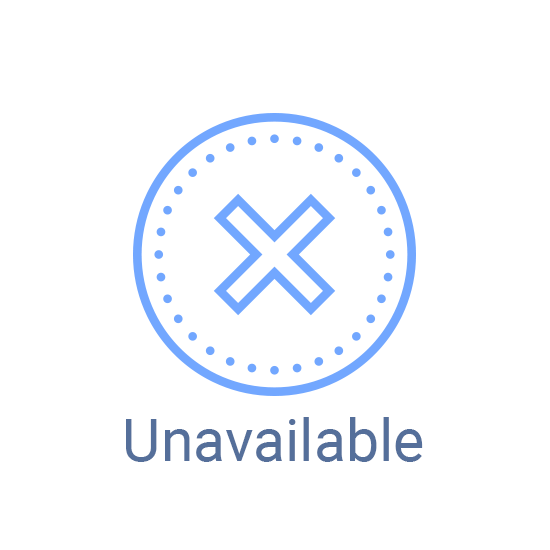
Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
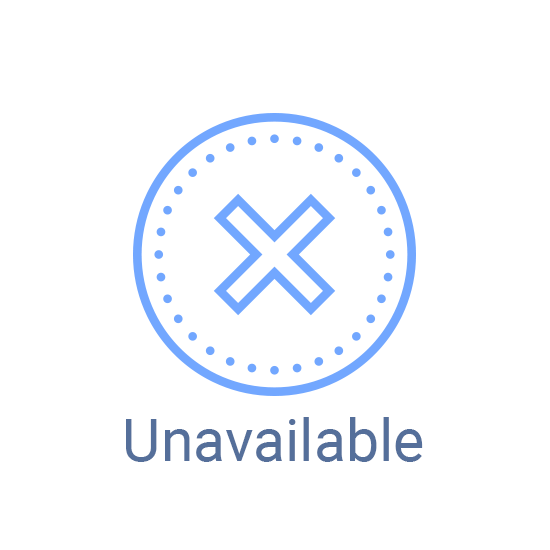
Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Брошка Наебуллиной
Связь @dkeputa
Менеджер: @MATROSKIN_YA
Менеджер: @MATROSKIN_YA
关联群组
БН
Чат Брошки
19
记录
16.05.202523:59
21.3K订阅者31.10.202423:59
800引用指数25.01.202523:59
92.1K每帖平均覆盖率26.01.202520:16
92.1K广告帖子的平均覆盖率14.09.202423:59
10.54%ER26.01.202520:16
508.53%ERR

15.05.202513:25
Прощание с Геращенко: о том, кто понимал экономику не по учебнику, а по жизни
Ушёл из жизни Виктор Владимирович Геращенко — человек, которого не зря называли “последним банкиром СССР” и “сильным руководителем Центробанка”. Но это не просто титулы. Это история о том, как здравый смысл и жизненный опыт оказались умнее всех “школ” и рекомендаций МВФ.
Геращенко находился в постоянной конфронтации с министром финансов Борисом Федоровым. Федоров настаивал: “Дефицит нельзя покрывать через ЦБ, только заимствования — и желательно международные”. Это было в духе времени — модный курс на “рыночные реформы”, кредиты от МВФ, ориентир на “макрофинансовую стабильность”. Это и сейчас кажется “классикой”. Но именно эта позиция тогда, в 90-е, вела страну прямиком к дефолту 1998 года. Так и вышло.
Геращенко говорил: умеренная эмиссия — не зло, а способ спасти экономику, когда иного выхода нет. И, в отличие от своих оппонентов, он это не просто теоретизировал — он это делал. Когда в 1998 году грянул дефолт и рубль рухнул с 6 до 25 за доллар, Геращенко вернули в ЦБ по предложению Примакова. И он поступил нестандартно: начал финансировать бюджет и Пенсионный фонд за счёт эмиссии. Снизил ключевую ставку, несмотря на нестабильную ситуацию — чтобы поддержать деловую активность. Поддержал национального производителя на волне девальвации: импорт стал дорог, но экспорт и внутренняя промышленность ожили. Все ждали гиперинфляции, а получили — рост ВВП, промышленного производства и оживление экономики. Почему? Потому что инфляционный “люфт” после девальвации дал такую возможность. Он этим просто воспользовался грамотно и что получил?
Резкое ускорение темпов роста:
– ВВП в 1999 году вырос на 6,4%,
– промышленность — на 11%,
– инфляция, хотя и возросла в краткосрочном периоде, стабилизировалась уже к 2000 году.
– Золотовалютные резервы после просадки снова начали расти, уже к 2002 году превысив $48 млрд.
Это был уникальный случай, когда Центробанк не “тушил пожар холодной водой”, а использовал его тепло для разгона экономики.
Сравните с тем, что делает ЦБ уже в наши дни в аналогичной ситуации — в 2022 и 2024 годах, когда курс снова ушёл вверх. Вместо того чтобы действовать по примеру Геращенко, регулятор начал сжимать экономику, повышать ставки и “бороться с инфляцией” в момент, когда, наоборот, нужен был приток денег в систему. Всё та же либеральная школа — заимствования, долги, удушение спроса. В итоге:
– ВВП (без оборонки) стагнирует,
– потребительский спрос снижается,
– реальные доходы населения проседают,
– бизнес жалуется на дорогие кредиты и недоступность оборотных средств.
Геращенко был первым, кто на публике выступил против этой парадигмы. Он верил, что Центробанк должен работать на страну, а не на показатели “по методичке”. Сегодня, провожая Виктора Владимировича, важно напомнить: он не просто “был прав в 1998 году”. Он актуален и сегодня. Его уроки — не про прошлое, а про будущее, которое мы ещё можем выбрать.
@naebrosh
Ушёл из жизни Виктор Владимирович Геращенко — человек, которого не зря называли “последним банкиром СССР” и “сильным руководителем Центробанка”. Но это не просто титулы. Это история о том, как здравый смысл и жизненный опыт оказались умнее всех “школ” и рекомендаций МВФ.
Геращенко находился в постоянной конфронтации с министром финансов Борисом Федоровым. Федоров настаивал: “Дефицит нельзя покрывать через ЦБ, только заимствования — и желательно международные”. Это было в духе времени — модный курс на “рыночные реформы”, кредиты от МВФ, ориентир на “макрофинансовую стабильность”. Это и сейчас кажется “классикой”. Но именно эта позиция тогда, в 90-е, вела страну прямиком к дефолту 1998 года. Так и вышло.
Геращенко говорил: умеренная эмиссия — не зло, а способ спасти экономику, когда иного выхода нет. И, в отличие от своих оппонентов, он это не просто теоретизировал — он это делал. Когда в 1998 году грянул дефолт и рубль рухнул с 6 до 25 за доллар, Геращенко вернули в ЦБ по предложению Примакова. И он поступил нестандартно: начал финансировать бюджет и Пенсионный фонд за счёт эмиссии. Снизил ключевую ставку, несмотря на нестабильную ситуацию — чтобы поддержать деловую активность. Поддержал национального производителя на волне девальвации: импорт стал дорог, но экспорт и внутренняя промышленность ожили. Все ждали гиперинфляции, а получили — рост ВВП, промышленного производства и оживление экономики. Почему? Потому что инфляционный “люфт” после девальвации дал такую возможность. Он этим просто воспользовался грамотно и что получил?
Резкое ускорение темпов роста:
– ВВП в 1999 году вырос на 6,4%,
– промышленность — на 11%,
– инфляция, хотя и возросла в краткосрочном периоде, стабилизировалась уже к 2000 году.
– Золотовалютные резервы после просадки снова начали расти, уже к 2002 году превысив $48 млрд.
Это был уникальный случай, когда Центробанк не “тушил пожар холодной водой”, а использовал его тепло для разгона экономики.
Сравните с тем, что делает ЦБ уже в наши дни в аналогичной ситуации — в 2022 и 2024 годах, когда курс снова ушёл вверх. Вместо того чтобы действовать по примеру Геращенко, регулятор начал сжимать экономику, повышать ставки и “бороться с инфляцией” в момент, когда, наоборот, нужен был приток денег в систему. Всё та же либеральная школа — заимствования, долги, удушение спроса. В итоге:
– ВВП (без оборонки) стагнирует,
– потребительский спрос снижается,
– реальные доходы населения проседают,
– бизнес жалуется на дорогие кредиты и недоступность оборотных средств.
Геращенко был первым, кто на публике выступил против этой парадигмы. Он верил, что Центробанк должен работать на страну, а не на показатели “по методичке”. Сегодня, провожая Виктора Владимировича, важно напомнить: он не просто “был прав в 1998 году”. Он актуален и сегодня. Его уроки — не про прошлое, а про будущее, которое мы ещё можем выбрать.
@naebrosh


12.05.202513:47
Продуктовый парадокс: дешёвый доллар и дорогие бананы
Все слышали про безумные цены на яйца в Соединённых Штатах? Так вот, с этой проблемой там уже справились, и по курсу на 10 апреля теперь яйца в американском Walmart стоят дешевле, чем у нас в «Ашане». Но дело не только в яйцах. Сейчас россияне, при зарплатах в 4 раза ниже, платят за еду... больше, чем американцы.
Вот вам пример: клубника. В России — 1 тыс. рублей за килограмм. В США — 591 рубль. Почти вдвое дешевле. Форель? Почти паритет: 980 рублей в России против 909 в США. И это при том, что Россия — страна, которую омывают 13 морей, с выходом к трем океанам и крупнейшими в мире пресноводными озёрами. У нас почти 6,5 млн тонн водных биоресурсов в год — а рыба всё равно стоит как деликатес. То есть рыбы вокруг много, но стоит она так, как будто её везут самолётом из Новой Зеландии.
Дальше — ещё интереснее. Помидоры — 350 рублей у нас и 186 у них. Сыр — 209 против 193. Бананы — 160 у нас, 102 у них. И даже молоко, простое молоко — 90 рублей в России и 83 в Штатах. Молоко — простейший, базовый продукт, исторически родной для нашей страны, где корова веками была в каждом дворе — стоит 90 рублей у нас и 83 рубля в США. То есть в стране, где традиционно молочные продукты — часть повседневной культуры и производства, — цена выше, чем у тех, у кого корова — скорее экзотика, чем бытовая необходимость.
А теперь про доходы. Средняя зарплата до вычета налогов в Москве — $1,815 в месяц. В Нью-Йорке — $8,733. В 4,8 раза выше. И при этом у них продукты стоят либо так же, либо дешевле. То есть не просто дешевле, а дешевле в разы, если учитывать соотношение цен к доходам.
Эксперты любят говорить про санкции, ослабление рубля, рост цен на логистику и импорт. Всё это, конечно, правда. Но корень проблемы глубже. Это последствия монетарной политики, проводимой ЦБ. Политики, которая, несмотря на ужесточения и высокие ставки, не справляется с инфляцией, а просто лишает населения денег, производства и предложения товаров. А инфляция, в свою очередь, съедает всё — и доходы, и сбережения, и покупательскую способность.
И пока мы покупаем молоко дороже, чем в Нью-Йорке, Центробанк продолжает борьбу с инфляцией... которую никак не может победить.
@naebrosh
Все слышали про безумные цены на яйца в Соединённых Штатах? Так вот, с этой проблемой там уже справились, и по курсу на 10 апреля теперь яйца в американском Walmart стоят дешевле, чем у нас в «Ашане». Но дело не только в яйцах. Сейчас россияне, при зарплатах в 4 раза ниже, платят за еду... больше, чем американцы.
Вот вам пример: клубника. В России — 1 тыс. рублей за килограмм. В США — 591 рубль. Почти вдвое дешевле. Форель? Почти паритет: 980 рублей в России против 909 в США. И это при том, что Россия — страна, которую омывают 13 морей, с выходом к трем океанам и крупнейшими в мире пресноводными озёрами. У нас почти 6,5 млн тонн водных биоресурсов в год — а рыба всё равно стоит как деликатес. То есть рыбы вокруг много, но стоит она так, как будто её везут самолётом из Новой Зеландии.
Дальше — ещё интереснее. Помидоры — 350 рублей у нас и 186 у них. Сыр — 209 против 193. Бананы — 160 у нас, 102 у них. И даже молоко, простое молоко — 90 рублей в России и 83 в Штатах. Молоко — простейший, базовый продукт, исторически родной для нашей страны, где корова веками была в каждом дворе — стоит 90 рублей у нас и 83 рубля в США. То есть в стране, где традиционно молочные продукты — часть повседневной культуры и производства, — цена выше, чем у тех, у кого корова — скорее экзотика, чем бытовая необходимость.
А теперь про доходы. Средняя зарплата до вычета налогов в Москве — $1,815 в месяц. В Нью-Йорке — $8,733. В 4,8 раза выше. И при этом у них продукты стоят либо так же, либо дешевле. То есть не просто дешевле, а дешевле в разы, если учитывать соотношение цен к доходам.
Эксперты любят говорить про санкции, ослабление рубля, рост цен на логистику и импорт. Всё это, конечно, правда. Но корень проблемы глубже. Это последствия монетарной политики, проводимой ЦБ. Политики, которая, несмотря на ужесточения и высокие ставки, не справляется с инфляцией, а просто лишает населения денег, производства и предложения товаров. А инфляция, в свою очередь, съедает всё — и доходы, и сбережения, и покупательскую способность.
И пока мы покупаем молоко дороже, чем в Нью-Йорке, Центробанк продолжает борьбу с инфляцией... которую никак не может победить.
@naebrosh


14.05.202511:57
Как Минфин и ЦБ добивают промышленность
Вчера опубликован проект изменений в закон "О федеральном бюджете на 2025 год". В 2025 году Россию ждет рекордный с пандемии дефицит бюджета. Причины понятны — резко ухудшилась внешнеэкономическая конъюнктура: нефть дешевеет, а рубль неожиданно крепкий. Последнее особенно бьёт по экспортерам: они получают меньше рублей за свои доллары, а значит — меньше налогов в бюджет. Именно из-за этого Минфин был вынужден пересмотреть федеральный бюджет: доходы снижаются, расходы растут, дефицит — взлетает. Вместо изначальных 1,2 трлн рублей он теперь составит 3,8 трлн, то есть в 3 раза больше. Это не просто коррекция — это полномасштабный провал доходной части бюджета, прежде всего по нефтегазовой линии. Ожидается, что государство недосчитается 2,6 трлн рублей от продажи нефти и газа. И это, подчеркиваю, не какие-то «риски» — это уже зафиксированные в официальных документах цифры.
Доходы пересчитаны вниз — с 40,3 до 38,5 трлн рублей, а расходы наоборот выросли — с 41,5 до 42,3 трлн. Логика простая: денег не хватает, но тратить надо больше. И на что же предлагается тратить? Основной приоритет — социальные обязательства. Расходы увеличиваются на 829 млрд рублей, причем львиная доля уходит на льготную ипотеку и ЖКХ (плюс 279 млрд), также немного добавят на сельское хозяйство, здравоохранение, помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Да, гуманно и разумно — особенно в непростое время. Но за красивыми словами о социальной стабильности стоит куда более тревожная реальность: за чей счет банкет? А именно, финансирование промышленности урезается. Минус 97 млрд рублей — это не абстрактные проценты, это очень конкретные сокращения поддержки автопрома, авиастроения, технологического сектора. Минус 22 млрд на НИОКР — значит, меньше инвестиций в науку, инновации, прикладные разработки. Минус 7 млрд на энергетику — в условиях, когда даже дружественные страны неохотно берут российский газ и нефть, и нужно срочно перестраивать энергетическую модель.
Минфин режет поддержку промышленности, пока ЦБ бьет по кредитам ставкой. Фактически ЦБ одновременно с Минфином душит промышленность с двух сторон: одна рука перекрывает финансирование, другая — затрудняет доступ к заимствованиям. В таких условиях модернизация невозможна, запуск новых производств — почти фантастика, да и существующие предприятия, особенно экспортно-ориентированные, просто выживают, если выживают.
Поддерживать внутренний спрос и социальную сферу в условиях санкционного давления нужно. Но проблема в том, что ставка делается исключительно на текущее потребление, а не на развитие. Инвестировать в технологии, промышленность, энергию, реальный сектор сегодня — это залог того, чтобы завтра вообще был бюджет, чтобы не остаться сырьевым придатком с красиво распределённой ипотекой и пустыми полками.
Нам говорят: «Это временно, сейчас главное стабильность». Но как можно говорить о стабильности, если мы жертвуем фундаментом? Социальная стабильность без производственной и технологической базы — это фикция. Декоративный фасад без несущих стен. Без модернизации, без вложений в промышленность и науку, без реальных стимулов для роста производства — никакая стабильность не устоит. Она просто станет красивой оболочкой для медленного экономического угасания.
А самое парадоксальное — всё это происходит в момент, когда вроде бы стало очевидно: западные рынки закрыты, импорт ограничен, глобальная конкуренция обострилась. Казалось бы, сейчас и надо делать ставку на своё — на своё производство, на свою науку, на свою промышленную мощь. Но Минфин и ЦБ — словно действуют строго наоборот. Они будто намеренно перекрывают кислород тому, что может дать стране экономический суверенитет.
И вот на этом фоне красиво звучат фразы про «национальные приоритеты» и «инвестиции в человека». Только вот без инвестиций в станки, технологии, разработки и заводы — вся эта «инвестиция в человека» превращается в подачку. Потому что без промышленности нет рабочих мест. Нет налогов. Нет экспорта. Нет опоры. Есть только временная стабильность, оплаченная распродажей будущего.
@naebrosh
Вчера опубликован проект изменений в закон "О федеральном бюджете на 2025 год". В 2025 году Россию ждет рекордный с пандемии дефицит бюджета. Причины понятны — резко ухудшилась внешнеэкономическая конъюнктура: нефть дешевеет, а рубль неожиданно крепкий. Последнее особенно бьёт по экспортерам: они получают меньше рублей за свои доллары, а значит — меньше налогов в бюджет. Именно из-за этого Минфин был вынужден пересмотреть федеральный бюджет: доходы снижаются, расходы растут, дефицит — взлетает. Вместо изначальных 1,2 трлн рублей он теперь составит 3,8 трлн, то есть в 3 раза больше. Это не просто коррекция — это полномасштабный провал доходной части бюджета, прежде всего по нефтегазовой линии. Ожидается, что государство недосчитается 2,6 трлн рублей от продажи нефти и газа. И это, подчеркиваю, не какие-то «риски» — это уже зафиксированные в официальных документах цифры.
Доходы пересчитаны вниз — с 40,3 до 38,5 трлн рублей, а расходы наоборот выросли — с 41,5 до 42,3 трлн. Логика простая: денег не хватает, но тратить надо больше. И на что же предлагается тратить? Основной приоритет — социальные обязательства. Расходы увеличиваются на 829 млрд рублей, причем львиная доля уходит на льготную ипотеку и ЖКХ (плюс 279 млрд), также немного добавят на сельское хозяйство, здравоохранение, помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Да, гуманно и разумно — особенно в непростое время. Но за красивыми словами о социальной стабильности стоит куда более тревожная реальность: за чей счет банкет? А именно, финансирование промышленности урезается. Минус 97 млрд рублей — это не абстрактные проценты, это очень конкретные сокращения поддержки автопрома, авиастроения, технологического сектора. Минус 22 млрд на НИОКР — значит, меньше инвестиций в науку, инновации, прикладные разработки. Минус 7 млрд на энергетику — в условиях, когда даже дружественные страны неохотно берут российский газ и нефть, и нужно срочно перестраивать энергетическую модель.
Минфин режет поддержку промышленности, пока ЦБ бьет по кредитам ставкой. Фактически ЦБ одновременно с Минфином душит промышленность с двух сторон: одна рука перекрывает финансирование, другая — затрудняет доступ к заимствованиям. В таких условиях модернизация невозможна, запуск новых производств — почти фантастика, да и существующие предприятия, особенно экспортно-ориентированные, просто выживают, если выживают.
Поддерживать внутренний спрос и социальную сферу в условиях санкционного давления нужно. Но проблема в том, что ставка делается исключительно на текущее потребление, а не на развитие. Инвестировать в технологии, промышленность, энергию, реальный сектор сегодня — это залог того, чтобы завтра вообще был бюджет, чтобы не остаться сырьевым придатком с красиво распределённой ипотекой и пустыми полками.
Нам говорят: «Это временно, сейчас главное стабильность». Но как можно говорить о стабильности, если мы жертвуем фундаментом? Социальная стабильность без производственной и технологической базы — это фикция. Декоративный фасад без несущих стен. Без модернизации, без вложений в промышленность и науку, без реальных стимулов для роста производства — никакая стабильность не устоит. Она просто станет красивой оболочкой для медленного экономического угасания.
А самое парадоксальное — всё это происходит в момент, когда вроде бы стало очевидно: западные рынки закрыты, импорт ограничен, глобальная конкуренция обострилась. Казалось бы, сейчас и надо делать ставку на своё — на своё производство, на свою науку, на свою промышленную мощь. Но Минфин и ЦБ — словно действуют строго наоборот. Они будто намеренно перекрывают кислород тому, что может дать стране экономический суверенитет.
И вот на этом фоне красиво звучат фразы про «национальные приоритеты» и «инвестиции в человека». Только вот без инвестиций в станки, технологии, разработки и заводы — вся эта «инвестиция в человека» превращается в подачку. Потому что без промышленности нет рабочих мест. Нет налогов. Нет экспорта. Нет опоры. Есть только временная стабильность, оплаченная распродажей будущего.
@naebrosh
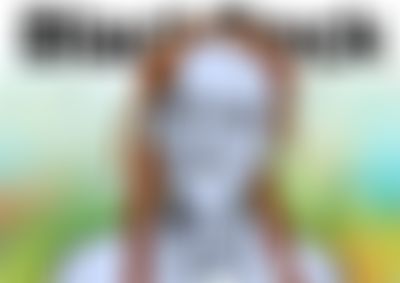

30.04.202512:55
BlackRock: захват без шума, но с триллионами.
Есть ощущение, что пока мы обсуждаем выборы, новые санкции или ценник на сахар, в мире происходят куда более масштабные и тихие вещи. Например — как одна компания под названием BlackRock постепенно становится владельцем всего: денег, инфраструктуры, данных и влияния.
В 2024 году BlackRock снова побила собственные рекорды. За год в их фонды залилось 641 миллиард долларов, и теперь они управляют активами на сумму 11,55 триллионов. Это не просто цифры — это власть. Их доходы растут двузначными темпами, прибыль за квартал — $1,67 млрд, и даже аналитики на Уолл-стрит начинают чесать затылки: куда всё это идёт?
А идёт это, судя по всему, к тотальному контролю. Потому что BlackRock сегодня — это уже не только про финансы. Это про то, кто владеет дорогами, аэропортами, логистикой, энергетикой и цифровой инфраструктурой.
В 2024-м они скупили всё, что поможет им держать руку на пульсе материального мира. За $12,5 млрд они взяли Global Infrastructure Partners — компанию, которая управляет ключевыми объектами инфраструктуры по всему миру. Потом — частного кредитного гиганта HPS за $12 млрд. Ещё — британскую компанию Preqin, которая собирает и анализирует данные о частных рынках. Всё это — шаги к тому, чтобы контролировать не просто активы, а саму основу глобальной экономики. А теперь добавим к этому их доли в таких компаниях, как Apple, Microsoft, Amazon, Google, а также Chevron, ExxonMobil, Pfizer, Johnson & Johnson, Meta, Tesla, и целый список банков — JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America. И всё это — не теоретические пакеты, а реальные доли с правом голоса и влияния. Они также являются крупнейшими акционерами в оборонных подрядчиках: Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman — то есть участвуют в глобальных военных тендерах и получают прибыль от геополитической нестабильности.
Это больше, чем просто финансы. Это — инфраструктурный контроль над реальностью. Они не просто двигают деньгами, они владеют дорогами, по которым ездят эти деньги.
Генеральный директор BlackRock Ларри Финк прямо сказал:
«2024 год стал вехой для стратегических приобретений».
Это признание того, что они строят новую систему власти — не через выборы, не через армии, а через инвестиции. Через владение. Через доступ к инфраструктуре, без которой не может работать ни одно государство.
Сегодня BlackRock — это не просто управляющий активами. Это — незаметный архитектор глобального порядка. А вместе с Vanguard и State Street они владеют почти 90% всех публичных компаний США. Фактически, мы живём в мире, где власть принадлежит не политикам, а советам директоров инвестиционных фондов. Их имена не на обложках газет, но их решения определяют вашу жизнь.
Потому что настоящая власть давно не у президентов. Она — у корпократии: у тех, кто контролирует ключевые активы мира.
Эта власть бесшумна, невидима, безальтернативна. И каждый год она становится всё сильнее.
@naebrosh
Есть ощущение, что пока мы обсуждаем выборы, новые санкции или ценник на сахар, в мире происходят куда более масштабные и тихие вещи. Например — как одна компания под названием BlackRock постепенно становится владельцем всего: денег, инфраструктуры, данных и влияния.
В 2024 году BlackRock снова побила собственные рекорды. За год в их фонды залилось 641 миллиард долларов, и теперь они управляют активами на сумму 11,55 триллионов. Это не просто цифры — это власть. Их доходы растут двузначными темпами, прибыль за квартал — $1,67 млрд, и даже аналитики на Уолл-стрит начинают чесать затылки: куда всё это идёт?
А идёт это, судя по всему, к тотальному контролю. Потому что BlackRock сегодня — это уже не только про финансы. Это про то, кто владеет дорогами, аэропортами, логистикой, энергетикой и цифровой инфраструктурой.
В 2024-м они скупили всё, что поможет им держать руку на пульсе материального мира. За $12,5 млрд они взяли Global Infrastructure Partners — компанию, которая управляет ключевыми объектами инфраструктуры по всему миру. Потом — частного кредитного гиганта HPS за $12 млрд. Ещё — британскую компанию Preqin, которая собирает и анализирует данные о частных рынках. Всё это — шаги к тому, чтобы контролировать не просто активы, а саму основу глобальной экономики. А теперь добавим к этому их доли в таких компаниях, как Apple, Microsoft, Amazon, Google, а также Chevron, ExxonMobil, Pfizer, Johnson & Johnson, Meta, Tesla, и целый список банков — JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America. И всё это — не теоретические пакеты, а реальные доли с правом голоса и влияния. Они также являются крупнейшими акционерами в оборонных подрядчиках: Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman — то есть участвуют в глобальных военных тендерах и получают прибыль от геополитической нестабильности.
Это больше, чем просто финансы. Это — инфраструктурный контроль над реальностью. Они не просто двигают деньгами, они владеют дорогами, по которым ездят эти деньги.
Генеральный директор BlackRock Ларри Финк прямо сказал:
«2024 год стал вехой для стратегических приобретений».
Это признание того, что они строят новую систему власти — не через выборы, не через армии, а через инвестиции. Через владение. Через доступ к инфраструктуре, без которой не может работать ни одно государство.
Сегодня BlackRock — это не просто управляющий активами. Это — незаметный архитектор глобального порядка. А вместе с Vanguard и State Street они владеют почти 90% всех публичных компаний США. Фактически, мы живём в мире, где власть принадлежит не политикам, а советам директоров инвестиционных фондов. Их имена не на обложках газет, но их решения определяют вашу жизнь.
Потому что настоящая власть давно не у президентов. Она — у корпократии: у тех, кто контролирует ключевые активы мира.
Эта власть бесшумна, невидима, безальтернативна. И каждый год она становится всё сильнее.
@naebrosh


17.04.202513:11
Почему у бедных инфляция 40%, а по телевизору — всего 9,5%?
Потому что считается она не по продуктовой корзине из ближайшего «Пятёрочки», а по корзине Шрёдингера — в ней одновременно ужинают в ресторане и мажут хлеб горчицей вместо масла.
Инфляцию считают не «на глазок», а строго по структуре потребления. Чем больше вы тратите на конкретный товар, тем сильнее он влияет на расчёт. Вот только сама структура — это не список из «гречки, масла и квартплаты». Для манипуляций статисты включают еще много чего. Это ещё и декоративные ткани, ковры, меховые пальто, страховки, санатории и поездки за границу, в которые 69% россиян не ездили ни разу в жизни. То есть если вы не покупаете дублёнки, не страхуете здоровье, не отдыхаете в санаториях и не обновляете мебель раз в год — поздравляем, ваша инфляция вообще не про вас, для вас она гораздо больше.
Если бедный человек вкладывается в картошку, молоко и ЖКХ, расчёты учитывают ещё и фотокамеры, кожаные сумки, экзотические туры и дорогой сыр, которые, как ни странно, тоже «влияют на инфляцию». Причём если сыр за год не подорожал, а картошка выросла в цене в два раза — средняя температура по больнице будет вполне сносной.
Хитрость №1 — весовая категория
Каждый товар в статистике имеет свой «вес» — его долю в потреблении. Весами жонглируют на основе опросов, кто и сколько тратит. Например, вес стационарных телефонов сейчас в 116 раз меньше, чем у смартфонов. А вот поездка в Китай — столь же значима, как линолеум, химчистка и билет в плацкарт. Абсурд? Вполне. Но математически — честно.
Хитрость №2 — дезинфляционные товары
Всегда найдётся что-то, что подешевело или хотя бы не подорожало. Шампуни, мыло, хозяйственные сумки — берём не самые популярные бренды, а те, что дешевле. В корзине — 700 товаров, из которых сотня-другая может вполне подыграть расчётам. Так и выходит, что средняя инфляция — 9,5%. В два раза ниже той, которую реально ощущает большинство, особенно те, кто покупает еду, а не страховки и не ездит в Альпы.
Важно: статистика ничего не скрывает, она просто считает среднее. Цены на товары берутся «как есть» — просто кто-то покупает зубную пасту за 500 рублей, а кто-то за 80. Статистик берёт ту, что попадётся на полке, чаще из нижнего ценового сегмента. И выходит, что всё под контролем, а инфляция вполне приличная. Только вот колбаса по 300 рублей — давно уже не колбаса, а её тень. А также статисты включают кучу всего, что дорожало не так сильно, потому что и так уже дорогое (типа фотоаппарат).
Но вот с капустой такие фокусы не пройдут. Капуста — это капуста. У неё нет «люксового» и «бюджетного» варианта и она всем нужна. Как и у морковки, гречки, молока. Разброс цен — максимум в 2–3 раза, в отличие от туров в Европу, где одна и та же страна может стоить как велосипед, а может — как квартира.
Так что по товарам первой необходимости инфляция всегда выше средней. Например, по итогам прошлого года:
— Картофель: +103% (в 2 раза)
— Лук репчатый: +50%
— Капуста белокочанная: +45%
— Сливочное масло: +39%
— Огурцы: +30%
Это декабрь к декабрю, а в январе цены поползли дальше. И ещё — всё сильно зависит от региона. В одном городе картошка дорожает вдвое, а в другом — в 2,8 раза. А хлебная инфляция — вообще 20%.
Таким образом бедные страдают больше, потому что в их структуре потребления — в основном еда и базовые нужды, без альтернатив и без выбора, и не усредняется фотоаппаратами. Там, где обеспеченные семьи могут варьировать свои расходы, бедные привязаны к капусте, хлебу и картошке. Базовые продукты не заменить на дешёвые заменители, соотвеnственно их инфляция взлетает до 40%, а иногда и до 60%, особенно если за пределами макарон и булки — бюджет пуст.
Так что да, инфляция — как швейцарские часы: точная, красивая и совершенно не про вас, если у вас денег только на базовые нужды.
@naebrosh
Потому что считается она не по продуктовой корзине из ближайшего «Пятёрочки», а по корзине Шрёдингера — в ней одновременно ужинают в ресторане и мажут хлеб горчицей вместо масла.
Инфляцию считают не «на глазок», а строго по структуре потребления. Чем больше вы тратите на конкретный товар, тем сильнее он влияет на расчёт. Вот только сама структура — это не список из «гречки, масла и квартплаты». Для манипуляций статисты включают еще много чего. Это ещё и декоративные ткани, ковры, меховые пальто, страховки, санатории и поездки за границу, в которые 69% россиян не ездили ни разу в жизни. То есть если вы не покупаете дублёнки, не страхуете здоровье, не отдыхаете в санаториях и не обновляете мебель раз в год — поздравляем, ваша инфляция вообще не про вас, для вас она гораздо больше.
Если бедный человек вкладывается в картошку, молоко и ЖКХ, расчёты учитывают ещё и фотокамеры, кожаные сумки, экзотические туры и дорогой сыр, которые, как ни странно, тоже «влияют на инфляцию». Причём если сыр за год не подорожал, а картошка выросла в цене в два раза — средняя температура по больнице будет вполне сносной.
Хитрость №1 — весовая категория
Каждый товар в статистике имеет свой «вес» — его долю в потреблении. Весами жонглируют на основе опросов, кто и сколько тратит. Например, вес стационарных телефонов сейчас в 116 раз меньше, чем у смартфонов. А вот поездка в Китай — столь же значима, как линолеум, химчистка и билет в плацкарт. Абсурд? Вполне. Но математически — честно.
Хитрость №2 — дезинфляционные товары
Всегда найдётся что-то, что подешевело или хотя бы не подорожало. Шампуни, мыло, хозяйственные сумки — берём не самые популярные бренды, а те, что дешевле. В корзине — 700 товаров, из которых сотня-другая может вполне подыграть расчётам. Так и выходит, что средняя инфляция — 9,5%. В два раза ниже той, которую реально ощущает большинство, особенно те, кто покупает еду, а не страховки и не ездит в Альпы.
Важно: статистика ничего не скрывает, она просто считает среднее. Цены на товары берутся «как есть» — просто кто-то покупает зубную пасту за 500 рублей, а кто-то за 80. Статистик берёт ту, что попадётся на полке, чаще из нижнего ценового сегмента. И выходит, что всё под контролем, а инфляция вполне приличная. Только вот колбаса по 300 рублей — давно уже не колбаса, а её тень. А также статисты включают кучу всего, что дорожало не так сильно, потому что и так уже дорогое (типа фотоаппарат).
Но вот с капустой такие фокусы не пройдут. Капуста — это капуста. У неё нет «люксового» и «бюджетного» варианта и она всем нужна. Как и у морковки, гречки, молока. Разброс цен — максимум в 2–3 раза, в отличие от туров в Европу, где одна и та же страна может стоить как велосипед, а может — как квартира.
Так что по товарам первой необходимости инфляция всегда выше средней. Например, по итогам прошлого года:
— Картофель: +103% (в 2 раза)
— Лук репчатый: +50%
— Капуста белокочанная: +45%
— Сливочное масло: +39%
— Огурцы: +30%
Это декабрь к декабрю, а в январе цены поползли дальше. И ещё — всё сильно зависит от региона. В одном городе картошка дорожает вдвое, а в другом — в 2,8 раза. А хлебная инфляция — вообще 20%.
Таким образом бедные страдают больше, потому что в их структуре потребления — в основном еда и базовые нужды, без альтернатив и без выбора, и не усредняется фотоаппаратами. Там, где обеспеченные семьи могут варьировать свои расходы, бедные привязаны к капусте, хлебу и картошке. Базовые продукты не заменить на дешёвые заменители, соотвеnственно их инфляция взлетает до 40%, а иногда и до 60%, особенно если за пределами макарон и булки — бюджет пуст.
Так что да, инфляция — как швейцарские часы: точная, красивая и совершенно не про вас, если у вас денег только на базовые нужды.
@naebrosh


17.04.202513:51
Бензиновый эквивалент: кто на сколько уедет на свою заводскую зарплату
Сравнил, на сколько литров бензина хватит зарплаты заводского рабочего в России, Норвегии и США. Заодно посмотрел, чьи зарплаты растут быстрее — у нас или у них.
Три страны, три нефтяных державы, три разных экономических вселенных. Нефть у всех есть — качай не хочу. Только вот бензин у каждого свой: у одних почти даром, у других — как парфюм класса люкс.
Начнем с России.
Заводской рабочий у нас в ноябре 2024 года получал в среднем 88 163 рубля. Для сравнения: в октябре было 89 217. Обычно в ноябре наблюдается прирост — зарплаты догоняют премиями и переработками — но в этот раз вышло наоборот. Впрочем, за 5 лет рост более чем приличный: с 44 тысяч рублей в 2019 году — ровно в два раза.
Это не чудо экономического рывка, а банальная кадровая беда: молодежь на станки не рвется, желающих всё меньше, приходится заманивать рублем. Логика простая: растет зарплата — растет интерес к вакансиям — снижается кадровый голод — подтягиваются и другие сектора. Словом, "фабричный локомотив" может потянуть за собой всю экономику.
Бензин у нас, несмотря на нефть под ногами, стоит 60,45 рубля за литр. Не Туркмения и не Алжир, где можно залиться по 30–38 рублей, но всё же дешевле, чем в Европе. На свою среднюю зарплату российский рабочий может позволить себе 1459 литров бензина.
А что в Норвегии?
Экономика — скандинавская, народ — обеспеченный, общественное благо — в приоритете. В четвёртом квартале 2024 года средняя зарплата в обрабатывающей промышленности — 58 510 крон, или 479 798 рублей. Почти полмиллиона. За 5 лет прибавка не рекордная — с 49,1 до 58,5 тысяч крон, всего 19%.
Но бензин — дорогой. 21,11 крон за литр — это 173,11 рубля. Почти в 3 раза выше нашего. На свою зарплату норвежский рабочий может купить 2772 литра бензина. Это в 1,9 раза больше, чем у нас.
Теперь — США.
Американская экономика: цены на бензин скачут, зарплаты — по часам. В декабре 2024 года заводской рабочий получал в среднем 28,33 доллара в час. Умножаем на 160 часов — получаем 4533 доллара в месяц, или около 408 тысяч рублей.
Здесь рост бодрее: 5 лет назад было 22,45 доллара в час, значит, прибавка — 26%. Бензин? Зависит от нефти и рыночной шизофрении. Сейчас — 0,9 доллара за литр, или 81 рубль. На треть дороже, чем у нас, но с зарплатами — терпимо. И не надо забывать: год назад было 2 доллара, а через год может быть и 0,5. Волатильность — часть американской мечты.
На свою зарплату американский рабочий может купить 5037 литров бензина. Это в 1,8 раза больше, чем у норвежца, и в 3,5 раза больше, чем у нас.
Вывод?
Зарплаты у нас растут — это факт. Но бензина за них можно купить в разы меньше. Приоритет не просто рост, а догнать, и главное — перегнать норвежцев с американцами по покупательной способности.
Ваши ставки, господа экономисты.
@naebrosh
Сравнил, на сколько литров бензина хватит зарплаты заводского рабочего в России, Норвегии и США. Заодно посмотрел, чьи зарплаты растут быстрее — у нас или у них.
Три страны, три нефтяных державы, три разных экономических вселенных. Нефть у всех есть — качай не хочу. Только вот бензин у каждого свой: у одних почти даром, у других — как парфюм класса люкс.
Начнем с России.
Заводской рабочий у нас в ноябре 2024 года получал в среднем 88 163 рубля. Для сравнения: в октябре было 89 217. Обычно в ноябре наблюдается прирост — зарплаты догоняют премиями и переработками — но в этот раз вышло наоборот. Впрочем, за 5 лет рост более чем приличный: с 44 тысяч рублей в 2019 году — ровно в два раза.
Это не чудо экономического рывка, а банальная кадровая беда: молодежь на станки не рвется, желающих всё меньше, приходится заманивать рублем. Логика простая: растет зарплата — растет интерес к вакансиям — снижается кадровый голод — подтягиваются и другие сектора. Словом, "фабричный локомотив" может потянуть за собой всю экономику.
Бензин у нас, несмотря на нефть под ногами, стоит 60,45 рубля за литр. Не Туркмения и не Алжир, где можно залиться по 30–38 рублей, но всё же дешевле, чем в Европе. На свою среднюю зарплату российский рабочий может позволить себе 1459 литров бензина.
А что в Норвегии?
Экономика — скандинавская, народ — обеспеченный, общественное благо — в приоритете. В четвёртом квартале 2024 года средняя зарплата в обрабатывающей промышленности — 58 510 крон, или 479 798 рублей. Почти полмиллиона. За 5 лет прибавка не рекордная — с 49,1 до 58,5 тысяч крон, всего 19%.
Но бензин — дорогой. 21,11 крон за литр — это 173,11 рубля. Почти в 3 раза выше нашего. На свою зарплату норвежский рабочий может купить 2772 литра бензина. Это в 1,9 раза больше, чем у нас.
Теперь — США.
Американская экономика: цены на бензин скачут, зарплаты — по часам. В декабре 2024 года заводской рабочий получал в среднем 28,33 доллара в час. Умножаем на 160 часов — получаем 4533 доллара в месяц, или около 408 тысяч рублей.
Здесь рост бодрее: 5 лет назад было 22,45 доллара в час, значит, прибавка — 26%. Бензин? Зависит от нефти и рыночной шизофрении. Сейчас — 0,9 доллара за литр, или 81 рубль. На треть дороже, чем у нас, но с зарплатами — терпимо. И не надо забывать: год назад было 2 доллара, а через год может быть и 0,5. Волатильность — часть американской мечты.
На свою зарплату американский рабочий может купить 5037 литров бензина. Это в 1,8 раза больше, чем у норвежца, и в 3,5 раза больше, чем у нас.
Вывод?
Зарплаты у нас растут — это факт. Но бензина за них можно купить в разы меньше. Приоритет не просто рост, а догнать, и главное — перегнать норвежцев с американцами по покупательной способности.
Ваши ставки, господа экономисты.
@naebrosh


28.04.202513:50
Реальный сектор умирает. При чем тут лизинг?
Хочу поговорить о реальной ситуации, которая сейчас происходит в экономике. Без красивых слов и прикрас. Ключевая ставка Центробанка — 21%. Уже больше года. И это убивает лизинг. А без лизинга сегодня невозможно ни строить, ни производить, ни возить товары. Экономика реально начинает задыхаться.
Что происходит на рынке? За 2024 год спрос на лизинг в сегменте грузовиков и строительной техники обвалился почти на 18%. Для понимания: в 2021–2022 годах этот сегмент рос кратно, иногда по 40–50% в год. Сейчас — падение. Лизинговые компании начали массово забирать обратно технику у клиентов, которые больше не тянут платежи. По итогам прошлого года объем изъятого имущества вырос в 3,2 раза. Сейчас на балансах компаний висит около 30 тысяч единиц техники, из них 15 тысяч — это только грузовые автомобили.
А теперь подумайте: если у перевозчиков нет машин, значит, некому доставлять товары. Если рушится логистика — рушится и производство, и торговля, и стройка. Это прямая угроза для реального сектора экономики. Это катастрофа для логистики. Грузовики — это кровь экономики: без них нет поставок стройматериалов, еды, техники, оборудования. Если не на чем возить, рушатся стройки, простаивают заводы, пустеют склады магазинов.
Больше всего страдает малый бизнес. Небольшие перевозчики — это до 60% рынка грузоперевозок в стране. Сейчас они не могут тянуть ни старые ставки по договорам, ни новые условия. Тарифы на перевозки за последний год упали на 10–15%, а расходы на обслуживание машин выросли минимум на 30%. Плюс высокая стоимость топлива — и всё это вкупе делает лизинг неподъемным.
Сами лизинговые компании в жестком цейтноте. Объём новых сделок по многим из них просел на 20–25%. Около 40% клиентов в автолизинге либо запросили пересмотр условий договоров, либо начали возвращать технику. Из-за этого компании начали развивать новые направления: продажу изъятых машин, программы повторного лизинга техники с пробегом, развитие собственных торговых площадок. Но это скорее борьба за выживание, чем полноценное развитие.
Из-за высокой стоимости денег обычные банки стали недоступным источником фондирования. За прошлый год объем выпусков облигаций лизинговыми компаниями вырос более чем на 70%, потому что это почти единственный способ привлечь хоть какие-то ресурсы. Плюс на рынок заходят маркетплейсы с готовыми цифровыми платформами и огромной клиентской базой. Они перехватывают часть клиентов, особенно в сегменте легкого коммерческого транспорта и легковых автомобилей.
При этом сами клиенты ведут себя крайне осторожно: 80% новых договоров сейчас заключаются либо на сокращенные сроки (1–2 года), либо с авансовыми платежами в размере 30–50% от стоимости техники — просто чтобы хоть как-то снизить ежемесячные платежи. Фактически экономика замерла в ожидании. Если ЦБ в ближайшие месяцы не начнет снижать ставку, к концу 2025 года рынок автолизинга может потерять ещё 15–20% объема.
А если ставка пойдет вниз — у бизнеса появится шанс. При падении ключевой ставки рынок лизинга способен вернуться к росту на 10–12% в год. Это даст возможность компаниям снова обновлять автопарки, запускать новые логистические цепочки, строить и производить.
Без лизинга обновлять технику за свои деньги могут только единицы. А значит, без дешевого финансирования нас ждёт не рост, а ещё большая стагнация в реальном секторе.
Если ставка упадет — рынок лизинга один из первых, кто оживет. А вместе с ним — и логистика, и строительство, и реальный сектор. Но сколько мы еще простоим на тормозах — вот главный вопрос.
@naebrosh
Хочу поговорить о реальной ситуации, которая сейчас происходит в экономике. Без красивых слов и прикрас. Ключевая ставка Центробанка — 21%. Уже больше года. И это убивает лизинг. А без лизинга сегодня невозможно ни строить, ни производить, ни возить товары. Экономика реально начинает задыхаться.
Что происходит на рынке? За 2024 год спрос на лизинг в сегменте грузовиков и строительной техники обвалился почти на 18%. Для понимания: в 2021–2022 годах этот сегмент рос кратно, иногда по 40–50% в год. Сейчас — падение. Лизинговые компании начали массово забирать обратно технику у клиентов, которые больше не тянут платежи. По итогам прошлого года объем изъятого имущества вырос в 3,2 раза. Сейчас на балансах компаний висит около 30 тысяч единиц техники, из них 15 тысяч — это только грузовые автомобили.
А теперь подумайте: если у перевозчиков нет машин, значит, некому доставлять товары. Если рушится логистика — рушится и производство, и торговля, и стройка. Это прямая угроза для реального сектора экономики. Это катастрофа для логистики. Грузовики — это кровь экономики: без них нет поставок стройматериалов, еды, техники, оборудования. Если не на чем возить, рушатся стройки, простаивают заводы, пустеют склады магазинов.
Больше всего страдает малый бизнес. Небольшие перевозчики — это до 60% рынка грузоперевозок в стране. Сейчас они не могут тянуть ни старые ставки по договорам, ни новые условия. Тарифы на перевозки за последний год упали на 10–15%, а расходы на обслуживание машин выросли минимум на 30%. Плюс высокая стоимость топлива — и всё это вкупе делает лизинг неподъемным.
Сами лизинговые компании в жестком цейтноте. Объём новых сделок по многим из них просел на 20–25%. Около 40% клиентов в автолизинге либо запросили пересмотр условий договоров, либо начали возвращать технику. Из-за этого компании начали развивать новые направления: продажу изъятых машин, программы повторного лизинга техники с пробегом, развитие собственных торговых площадок. Но это скорее борьба за выживание, чем полноценное развитие.
Из-за высокой стоимости денег обычные банки стали недоступным источником фондирования. За прошлый год объем выпусков облигаций лизинговыми компаниями вырос более чем на 70%, потому что это почти единственный способ привлечь хоть какие-то ресурсы. Плюс на рынок заходят маркетплейсы с готовыми цифровыми платформами и огромной клиентской базой. Они перехватывают часть клиентов, особенно в сегменте легкого коммерческого транспорта и легковых автомобилей.
При этом сами клиенты ведут себя крайне осторожно: 80% новых договоров сейчас заключаются либо на сокращенные сроки (1–2 года), либо с авансовыми платежами в размере 30–50% от стоимости техники — просто чтобы хоть как-то снизить ежемесячные платежи. Фактически экономика замерла в ожидании. Если ЦБ в ближайшие месяцы не начнет снижать ставку, к концу 2025 года рынок автолизинга может потерять ещё 15–20% объема.
А если ставка пойдет вниз — у бизнеса появится шанс. При падении ключевой ставки рынок лизинга способен вернуться к росту на 10–12% в год. Это даст возможность компаниям снова обновлять автопарки, запускать новые логистические цепочки, строить и производить.
Без лизинга обновлять технику за свои деньги могут только единицы. А значит, без дешевого финансирования нас ждёт не рост, а ещё большая стагнация в реальном секторе.
Если ставка упадет — рынок лизинга один из первых, кто оживет. А вместе с ним — и логистика, и строительство, и реальный сектор. Но сколько мы еще простоим на тормозах — вот главный вопрос.
@naebrosh
转发自: БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР
БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР
07.05.202514:46
Курс рубля сегодня - не рыночный индикатор, а результат целенаправленного административного управления. Центробанк и Минфин продолжают ежедневные валютные интервенции, стремясь сдержать инфляцию и поддержать видимость стабильности. Однако фундаментальные экономические показатели сигнализируют о нарастающих проблемах: дефицит бюджета уже превысил изначальные планы более чем втрое, достигнув 3,79 трлн рублей против 1,17 трлн. Ключевая причина - падение цен на нефть, основной источник валютных доходов. Российская Urals временами торгуется около $50 за баррель, а средний прогноз на год снижен до $56, что значительно ниже заложенных в бюджет $65. Каждый доллар снижения цены обходится казне примерно в 150-200 млрд рублей недополученных доходов в год.
Падение нефтяных котировок усугубляется решением ОПЕК+ наращивать добычу, что увеличивает предложение на рынке. На этом фоне в Минфине уже открыто говорят о неактуальности текущего бюджетного правила с ценой отсечения в $60 за баррель. Глава ведомства Антон Силуанов допустил необходимость его корректировки, и всё чаще звучат предположения о возможном снижении планки до $50. Такой шаг, хотя и приблизит правило к рыночным реалиям, может сократить доходы бюджета еще на 1,5-1,7 трлн рублей. Парадоксально, но при цене нефти выше новой, пониженной отсечки, Минфин может вновь перейти от продажи к покупке валюты, что окажет дополнительное давление на рубль.
Искусственное удержание курса в текущих условиях - это тактика выигрыша времени, но не решение проблемы. Накопленный бюджетный дефицит и слабая сырьевая конъюнктура создают мощные предпосылки для ослабления рубля. Чем дольше курс удерживается административно, тем выше вероятность резкой коррекции в будущем, необходимой для балансировки бюджета. Если цены на нефть стабилизируются на текущих низких уровнях, реалистичной целью для курса выглядит отметка в 100 рублей за доллар. В случае же усугубления ситуации, например, при начале глобальной рецессии без новых крупных геополитических конфликтов, курс может уйти и к 110-120 рублям.
Учитывая эти риски и неустойчивость текущей курсовой политики, покупка иностранной валюты любыми доступными способами представляется разумной стратегией хеджирования. Нынешний курс не отражает всего спектра экономических и бюджетных рисков, и его коррекция - лишь вопрос времени.
БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР | Подписаться
Падение нефтяных котировок усугубляется решением ОПЕК+ наращивать добычу, что увеличивает предложение на рынке. На этом фоне в Минфине уже открыто говорят о неактуальности текущего бюджетного правила с ценой отсечения в $60 за баррель. Глава ведомства Антон Силуанов допустил необходимость его корректировки, и всё чаще звучат предположения о возможном снижении планки до $50. Такой шаг, хотя и приблизит правило к рыночным реалиям, может сократить доходы бюджета еще на 1,5-1,7 трлн рублей. Парадоксально, но при цене нефти выше новой, пониженной отсечки, Минфин может вновь перейти от продажи к покупке валюты, что окажет дополнительное давление на рубль.
Искусственное удержание курса в текущих условиях - это тактика выигрыша времени, но не решение проблемы. Накопленный бюджетный дефицит и слабая сырьевая конъюнктура создают мощные предпосылки для ослабления рубля. Чем дольше курс удерживается административно, тем выше вероятность резкой коррекции в будущем, необходимой для балансировки бюджета. Если цены на нефть стабилизируются на текущих низких уровнях, реалистичной целью для курса выглядит отметка в 100 рублей за доллар. В случае же усугубления ситуации, например, при начале глобальной рецессии без новых крупных геополитических конфликтов, курс может уйти и к 110-120 рублям.
Учитывая эти риски и неустойчивость текущей курсовой политики, покупка иностранной валюты любыми доступными способами представляется разумной стратегией хеджирования. Нынешний курс не отражает всего спектра экономических и бюджетных рисков, и его коррекция - лишь вопрос времени.
БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР | Подписаться


21.04.202513:12
Трампизм 2.0: Тройное «Д» — дерегулирование, деглобализация, дестабилизация
Пока либеральные экономисты строчат ироничные треды про "дед забыл таблетки" и "развал мировой экономики", Дональд Трамп проводит политику, которая, как минимум, не идёт вразрез с логикой текущих мировых процессов. А по факту — просто усиливает давно запущенные тренды.
Дерегулирование — это ставка на абсолютную свободу цифровых корпораций. Искусственный интеллект, облачные вычисления, гигафабрики, нейросети — всё это должно развиваться без тормозов, без норм, без ограничений "старой демократии". Зелёная повестка? Нет. Нефть, газ, холодные дата-центры — да. Парадоксально, но в цифре — дерегуляция, а в промышленности — пошлины, квоты и тарифы, особенно против Китая. Такой вот selective capitalism.
Деглобализация — это не каприз одного человека, а тенденция минимум последних 10 лет. Мир устал от "глобальной деревни". Страны снова хотят защищать свои производства, своих рабочих, свои рынки. Свободная торговля? Была. Сейчас — торговые войны, протекционизм, валютные манипуляции, блокировки. Даже ЕС начал сворачивать интеграционные амбиции и играть в импортозамещение. США — просто первые, кто делает это без лицемерия.
Дестабилизация — это новое состояние глобального мира. Когда вместо стабильности — турбулентность, а вместо правил — гибкие сценарии. США не пытаются сохранить гегемонию — они пытаются адаптироваться к её окончанию. Это не ошибка, это стратегия. Не красиво? Возможно. Эффективно? Вполне.
США в гонке за глобализацию слишком долго деградировали - финансовый рынок преобладает над реальным (мировой рынок торговли оценивается в $30 трлн, а суточный объём торговли биржевыми фьючерсами — в $7-8 трлн); доля активов 5 крупнейших банков США составляет 46,2 %, расходы на НИОКР упали за 50 лет в 3-5 раз; на 2% высококачественного образования приходится 18% среднего и 80% - откровенно паршивого. Иронизировать можно сколько угодно. Но мир действительно меняется — и этот "тройной D" может оказаться гораздо прочнее, чем кажется.На фоне надутого до небес финансового пузыря, деградации среднего класса и падения качества образования — ставка на внутреннее производство и технологическое доминирование выглядит не безумной, а логичной. Америка просто хочет пережить надвигающийся кризис не как пожарная команда, а как архитектор новой реальности.
@naebrosh
Пока либеральные экономисты строчат ироничные треды про "дед забыл таблетки" и "развал мировой экономики", Дональд Трамп проводит политику, которая, как минимум, не идёт вразрез с логикой текущих мировых процессов. А по факту — просто усиливает давно запущенные тренды.
Дерегулирование — это ставка на абсолютную свободу цифровых корпораций. Искусственный интеллект, облачные вычисления, гигафабрики, нейросети — всё это должно развиваться без тормозов, без норм, без ограничений "старой демократии". Зелёная повестка? Нет. Нефть, газ, холодные дата-центры — да. Парадоксально, но в цифре — дерегуляция, а в промышленности — пошлины, квоты и тарифы, особенно против Китая. Такой вот selective capitalism.
Деглобализация — это не каприз одного человека, а тенденция минимум последних 10 лет. Мир устал от "глобальной деревни". Страны снова хотят защищать свои производства, своих рабочих, свои рынки. Свободная торговля? Была. Сейчас — торговые войны, протекционизм, валютные манипуляции, блокировки. Даже ЕС начал сворачивать интеграционные амбиции и играть в импортозамещение. США — просто первые, кто делает это без лицемерия.
Дестабилизация — это новое состояние глобального мира. Когда вместо стабильности — турбулентность, а вместо правил — гибкие сценарии. США не пытаются сохранить гегемонию — они пытаются адаптироваться к её окончанию. Это не ошибка, это стратегия. Не красиво? Возможно. Эффективно? Вполне.
США в гонке за глобализацию слишком долго деградировали - финансовый рынок преобладает над реальным (мировой рынок торговли оценивается в $30 трлн, а суточный объём торговли биржевыми фьючерсами — в $7-8 трлн); доля активов 5 крупнейших банков США составляет 46,2 %, расходы на НИОКР упали за 50 лет в 3-5 раз; на 2% высококачественного образования приходится 18% среднего и 80% - откровенно паршивого. Иронизировать можно сколько угодно. Но мир действительно меняется — и этот "тройной D" может оказаться гораздо прочнее, чем кажется.На фоне надутого до небес финансового пузыря, деградации среднего класса и падения качества образования — ставка на внутреннее производство и технологическое доминирование выглядит не безумной, а логичной. Америка просто хочет пережить надвигающийся кризис не как пожарная команда, а как архитектор новой реальности.
@naebrosh


29.04.202517:56
Германия: возвращение "больного человека Европы"? Только уже в форме — и с деньгами
Казалось бы, совсем недавно Германию списывали со счетов. Экономика буксовала, промышленность сжималась, а индекс DAX не мог выбраться из затяжной стагнации. Но сейчас всё выглядит иначе. Фондовый рынок уверенно растёт, крупнейшие корпорации отчитываются о прибыли, а потребители демонстрируют неожиданный оптимизм. И за этим стоит не чудо, а чёткий, мощный рывок правительства — в виде государственных вливаний в масштабах, которые Европа не видела десятилетиями.
В марте 2025 года Берлин принял решение, способное изменить экономический ландшафт страны: были ослаблены жесткие бюджетные ограничения, известные как «долговой тормоз» — правило, ограничивающее рост государственного долга. Это открыло путь к высвобождению примерно 1 триллиона евро бюджетных ресурсов. Эти средства теперь направляются в приоритетные сферы: на восстановление инфраструктуры, инвестиции в оборону, субсидии промышленности и цифровизацию производства.
Эти меры уже дали осязаемый эффект. Немецкий индекс DAX вырос на более чем 12% с начала 2025 года. Для сравнения: французский CAC 40 за тот же период прибавил чуть более 3%, а американский S&P 500, напротив, снизился на 6%. При этом мультипликатор цена/прибыль (P/E) по DAX сейчас составляет около 16, тогда как по S&P 500 — более 21, что делает немецкий рынок заметно более привлекательным для инвесторов, ищущих соотношение "цена/качество".
На уровне компаний сигналы не менее сильные. Deutsche Bank сообщил о лучшей квартальной прибыли за последние 14 лет — €2,5 млрд за первый квартал 2025 года, благодаря активной торговле и росту доходов в инвестиционном банкинге. Lufthansa, несмотря на уязвимость сектора к экономическим шокам, не только не понизила прогноз, но и подтвердила годовой план прибыли на уровне €2,6 млрд, что крайне нетипично для авиации в условиях нестабильности. Adidas, в свою очередь, заявил о росте квартального дохода на 8,6%, а CEO компании Бьорн Гульден подчеркнул, что если бы не американские пошлины, бренд уже пересматривал бы прогнозы в сторону повышения.
Даже обрабатывающая промышленность, которая была в рецессии почти два года, подаёт признаки стабилизации. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) достиг 47,8 пункта — это всё ещё ниже 50, но лучший показатель с начала 2023 года. Сокращение продолжается, но его темпы — минимальные за два года.
Потребительские настроения тоже на подъёме. Согласно последнему опросу института GfK, индекс уверенности потребителей в Германии достиг -24,2 пункта, что, несмотря на сохраняющийся минус, является лучшим результатом с августа 2023 года. Это означает, что немцы начинают тратить больше, а не просто сберегать.
В макроэкономике пока без чуда, но и без провала. МВФ прогнозирует нулевой рост ВВП Германии в 2025 году и 0,9% в 2026 году, что, конечно, скромно, но уже выше предыдущих оценок, которые указывали на возможное продолжение рецессии. Важно и то, что экспорт постепенно оживает на фоне ослабления евро: курс евро/доллар опустился ниже 1,07, что делает немецкие товары более конкурентоспособными на внешних рынках, особенно в США и Азии.
Таким образом, Германия начинает собирать дивиденды от масштабной смены парадигмы. Государственные инвестиции, налоговая гибкость, новая промышленная политика и сильные глобальные тренды впервые за долгое время движутся в одном направлении. Да, это ещё не «вторая Wirtschaftswunder». Но если Берлин удержит курс и продолжит финансировать промышленность и инфраструктуру — Германия вполне может стать локомотивом европейского восстановления.
@naebrosh
Казалось бы, совсем недавно Германию списывали со счетов. Экономика буксовала, промышленность сжималась, а индекс DAX не мог выбраться из затяжной стагнации. Но сейчас всё выглядит иначе. Фондовый рынок уверенно растёт, крупнейшие корпорации отчитываются о прибыли, а потребители демонстрируют неожиданный оптимизм. И за этим стоит не чудо, а чёткий, мощный рывок правительства — в виде государственных вливаний в масштабах, которые Европа не видела десятилетиями.
В марте 2025 года Берлин принял решение, способное изменить экономический ландшафт страны: были ослаблены жесткие бюджетные ограничения, известные как «долговой тормоз» — правило, ограничивающее рост государственного долга. Это открыло путь к высвобождению примерно 1 триллиона евро бюджетных ресурсов. Эти средства теперь направляются в приоритетные сферы: на восстановление инфраструктуры, инвестиции в оборону, субсидии промышленности и цифровизацию производства.
Эти меры уже дали осязаемый эффект. Немецкий индекс DAX вырос на более чем 12% с начала 2025 года. Для сравнения: французский CAC 40 за тот же период прибавил чуть более 3%, а американский S&P 500, напротив, снизился на 6%. При этом мультипликатор цена/прибыль (P/E) по DAX сейчас составляет около 16, тогда как по S&P 500 — более 21, что делает немецкий рынок заметно более привлекательным для инвесторов, ищущих соотношение "цена/качество".
На уровне компаний сигналы не менее сильные. Deutsche Bank сообщил о лучшей квартальной прибыли за последние 14 лет — €2,5 млрд за первый квартал 2025 года, благодаря активной торговле и росту доходов в инвестиционном банкинге. Lufthansa, несмотря на уязвимость сектора к экономическим шокам, не только не понизила прогноз, но и подтвердила годовой план прибыли на уровне €2,6 млрд, что крайне нетипично для авиации в условиях нестабильности. Adidas, в свою очередь, заявил о росте квартального дохода на 8,6%, а CEO компании Бьорн Гульден подчеркнул, что если бы не американские пошлины, бренд уже пересматривал бы прогнозы в сторону повышения.
Даже обрабатывающая промышленность, которая была в рецессии почти два года, подаёт признаки стабилизации. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) достиг 47,8 пункта — это всё ещё ниже 50, но лучший показатель с начала 2023 года. Сокращение продолжается, но его темпы — минимальные за два года.
Потребительские настроения тоже на подъёме. Согласно последнему опросу института GfK, индекс уверенности потребителей в Германии достиг -24,2 пункта, что, несмотря на сохраняющийся минус, является лучшим результатом с августа 2023 года. Это означает, что немцы начинают тратить больше, а не просто сберегать.
В макроэкономике пока без чуда, но и без провала. МВФ прогнозирует нулевой рост ВВП Германии в 2025 году и 0,9% в 2026 году, что, конечно, скромно, но уже выше предыдущих оценок, которые указывали на возможное продолжение рецессии. Важно и то, что экспорт постепенно оживает на фоне ослабления евро: курс евро/доллар опустился ниже 1,07, что делает немецкие товары более конкурентоспособными на внешних рынках, особенно в США и Азии.
Таким образом, Германия начинает собирать дивиденды от масштабной смены парадигмы. Государственные инвестиции, налоговая гибкость, новая промышленная политика и сильные глобальные тренды впервые за долгое время движутся в одном направлении. Да, это ещё не «вторая Wirtschaftswunder». Но если Берлин удержит курс и продолжит финансировать промышленность и инфраструктуру — Германия вполне может стать локомотивом европейского восстановления.
@naebrosh
转发自: Графономика
Графономика


24.04.202510:22
Искусственный интеллект питается низкообогащенным ураном
На левой карте крупнейшие американские ЦОДы. На правой — американские АЭС. Визуально не сложно наложить одно на другое. Вывод очевиден — есть АЭС, есть ЦОД; нет АЭС — вы живете в Германии.
Развитие ЦОДов уже очень скоро вдохнет в жизнь строительство АЭС. Жрут электричества ЦОДы очень много: больше, чем алюминиевый завод. При этом стабильно. То есть всё, как любят атомщики.
Другое дело, что американцы разучились строить атомные энергоблоки в разумные сроки по разумным ценам. И французы, и англичане, и японцы. Построить АЭС быстро и дешево могут либо русские, либо китайцы. Примерно то же с добычей и обогащением урана. Но «Росатом» под санкциями США, а китайские компании вот-вот окажутся там же. При этом Китай у себя возводит АЭС пачками. И ЦОДы тоже. А американским корпорациям очень хочется уже сейчас, как и китайцы, строить ЦОДы.
И это даже не вызов, это огромный энергетический кризис в США — виной которому многолетняя необдуманная политика.
На левой карте крупнейшие американские ЦОДы. На правой — американские АЭС. Визуально не сложно наложить одно на другое. Вывод очевиден — есть АЭС, есть ЦОД; нет АЭС — вы живете в Германии.
Развитие ЦОДов уже очень скоро вдохнет в жизнь строительство АЭС. Жрут электричества ЦОДы очень много: больше, чем алюминиевый завод. При этом стабильно. То есть всё, как любят атомщики.
Другое дело, что американцы разучились строить атомные энергоблоки в разумные сроки по разумным ценам. И французы, и англичане, и японцы. Построить АЭС быстро и дешево могут либо русские, либо китайцы. Примерно то же с добычей и обогащением урана. Но «Росатом» под санкциями США, а китайские компании вот-вот окажутся там же. При этом Китай у себя возводит АЭС пачками. И ЦОДы тоже. А американским корпорациям очень хочется уже сейчас, как и китайцы, строить ЦОДы.
И это даже не вызов, это огромный энергетический кризис в США — виной которому многолетняя необдуманная политика.


18.04.202513:56
Nvidia и Трамп: символ деглобализации
Ещё полгода назад Nvidia была звездой Уолл-стрит: бешеные прибыли, передовые чипы, искусственный интеллект, и, конечно, Дженсен Хуанг — харизматичный СЕО в вечной кожанке, как рок-звезда Кремниевой долины.
Но теперь Nvidia — не символ успеха, а почти кейс из бизнес-учебника о том, как попасть под раздачу из-за геополитики. В среду компания сообщила, что потеряет около $5,5 млрд из-за новых американских ограничений на экспорт чипов в Китай. Хуанг даже метнулся в Поднебесную спасать сделки, но — сюрприз — Конгресс начал расследование по этому вопросу. Рынок всё понял правильно: акции пошли вниз, что вызвало снижение стоимости акций на 6,3% и уменьшение рыночной капитализации более чем на $160 млрд.
Nvidia просто стала первым ярким маркером большой проблемы: технологическая глобализация столкнулась с реальностью — эпохой Трампа 2.0, где каждый чип, каждый минерал и каждая микросхема становятся оружием, фишкой, но и заложником одновременно.
Тут есть три главных урока:
Цифровой мир — не такой уж безграничный. Все наши «облака», метавселенные и AI-платформы на деле завязаны на хрупкую физическую инфраструктуру — от рудников с редкоземельными металлами до заводов по производству кремниевых пластин. По словам профессора Криса Миллера, у нас самые сложные цепочки поставок в истории. США контролируют 96% софта для проектирования чипов, Тайвань делает 95% топовых микросхем, Япония рулит пластинами, а Китай перерабатывает 90% всех важных минералов и магнитов. Такой себе Jenga-экспорт.
Американская подготовка — на троечку. Китай ввёл экспортный контроль на 7 ключевых минералов в ответ на 145% пошлины США. Знакомый сценарий: в 2010 году был аналогичный конфликт с Японией, и Токио тогда быстро сделал выводы — запасся, нашёл альтернативы, и снизил зависимость от Китая с 90% до 58%. А вот США, судя по всему, не особо парились. Запасы — максимум на пару месяцев. Даже Пентагон, говорят, не в лучшей форме.
Развязать экономическую войну проще, чем выйти из неё. Белый дом пытается искать замену китайским ресурсам — где-то на дне океана или в украинских залежах, но это перспектива не месяцев, а лет. И в это время Китай спокойно держит всех за редкоземельное горло.
Вывод? Nvidia — это просто первая ласточка. А дальше по курсу — шторм из экономических противоречий, где AI-чипы и редкие металлы важнее танков и нефти. И никакая кожанка не спасёт от такой турбулентности. Тот кто лучше готов, тот и победит
@naebrosh
Ещё полгода назад Nvidia была звездой Уолл-стрит: бешеные прибыли, передовые чипы, искусственный интеллект, и, конечно, Дженсен Хуанг — харизматичный СЕО в вечной кожанке, как рок-звезда Кремниевой долины.
Но теперь Nvidia — не символ успеха, а почти кейс из бизнес-учебника о том, как попасть под раздачу из-за геополитики. В среду компания сообщила, что потеряет около $5,5 млрд из-за новых американских ограничений на экспорт чипов в Китай. Хуанг даже метнулся в Поднебесную спасать сделки, но — сюрприз — Конгресс начал расследование по этому вопросу. Рынок всё понял правильно: акции пошли вниз, что вызвало снижение стоимости акций на 6,3% и уменьшение рыночной капитализации более чем на $160 млрд.
Nvidia просто стала первым ярким маркером большой проблемы: технологическая глобализация столкнулась с реальностью — эпохой Трампа 2.0, где каждый чип, каждый минерал и каждая микросхема становятся оружием, фишкой, но и заложником одновременно.
Тут есть три главных урока:
Цифровой мир — не такой уж безграничный. Все наши «облака», метавселенные и AI-платформы на деле завязаны на хрупкую физическую инфраструктуру — от рудников с редкоземельными металлами до заводов по производству кремниевых пластин. По словам профессора Криса Миллера, у нас самые сложные цепочки поставок в истории. США контролируют 96% софта для проектирования чипов, Тайвань делает 95% топовых микросхем, Япония рулит пластинами, а Китай перерабатывает 90% всех важных минералов и магнитов. Такой себе Jenga-экспорт.
Американская подготовка — на троечку. Китай ввёл экспортный контроль на 7 ключевых минералов в ответ на 145% пошлины США. Знакомый сценарий: в 2010 году был аналогичный конфликт с Японией, и Токио тогда быстро сделал выводы — запасся, нашёл альтернативы, и снизил зависимость от Китая с 90% до 58%. А вот США, судя по всему, не особо парились. Запасы — максимум на пару месяцев. Даже Пентагон, говорят, не в лучшей форме.
Развязать экономическую войну проще, чем выйти из неё. Белый дом пытается искать замену китайским ресурсам — где-то на дне океана или в украинских залежах, но это перспектива не месяцев, а лет. И в это время Китай спокойно держит всех за редкоземельное горло.
Вывод? Nvidia — это просто первая ласточка. А дальше по курсу — шторм из экономических противоречий, где AI-чипы и редкие металлы важнее танков и нефти. И никакая кожанка не спасёт от такой турбулентности. Тот кто лучше готов, тот и победит
@naebrosh
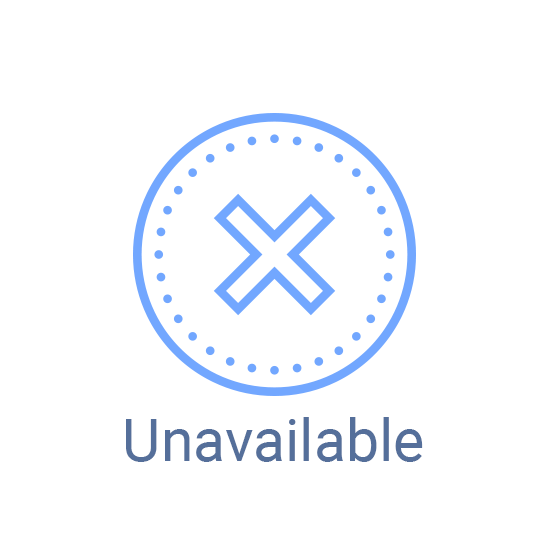
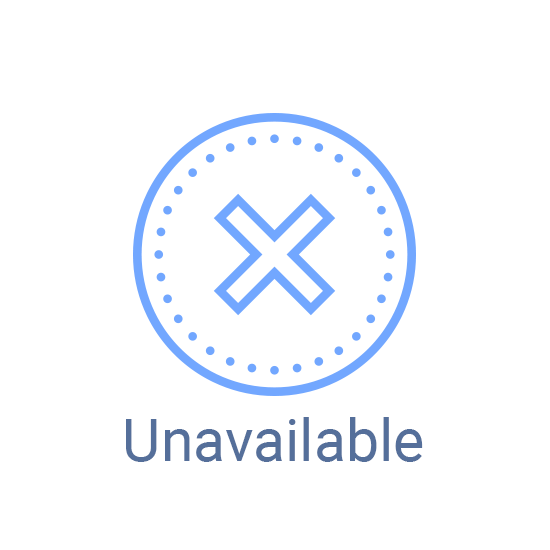
23.04.202510:35
Когда технологии — дома
Не так давно наткнулся на компанию, про которую раньше слышал вскользь, а теперь захотел рассказать подробнее — NtechLab. Это ребята, кто делает одну из самых точных в мире систем распознавания лиц. И вот буквально на днях они официально стали российской компанией — редомициляция, новое юрлицо, теперь зарегистрированы в Калининграде.
Сначала подумал: ну окей, очередная смена прописки. Но когда начал копать, понял, насколько это в тему времени.
Во-первых, у них удвоение выручки за 2024 год — 1,7 млрд рублей, 450 новых контрактов, и 70% из них — внутри страны. Во-вторых, компания не просто «выросла» — она реально на передовой в сфере ИИ. По данным американского NIST, их система входит в топ-5 в мире по точности распознавания лиц, и используется уже в 70 регионах России и 34 странах. И всё это — при том, что команда и разработки базируются в РФ.
Сейчас столько разговоров про технологический суверенитет, импортозамещение, свои ИИ-модели и вычисления — а вот тебе реальный пример: компания, которая работает с большими данными, алгоритмами, видеоаналитикой, и делает это не хуже, чем на Западе, а иногда и лучше. И теперь она не просто «работает в России», а официально становится её частью. Это уже не модный стартап, а крепкий технологический игрок. И особенно это важно сейчас — в момент, когда на Западе в ИИ вливают сотни миллиардов, а у нас таких объёмов даже рядом нет.
Для сравнения: Microsoft инвестировала в OpenAI более $13 млрд, Amazon вложила $4 млрд в стартап Anthropic, бюджеты крупнейших ИИ-команд в США и Китае измеряются миллиардами долларов в год. Один только кластер NVIDIA H100 (на котором обучают GPT-подобные модели) может стоить $200–300 млн.
А в России, по самым оптимистичным оценкам, на всё развитие ИИ согласно нацпроекту за 2024–2026 год заложено около 100 млрд рублей — то есть чуть больше $1 млрд на три года. И это на весь рынок — от образования и железа до приложений.
Поэтому появление и рост таких компаний, как NtechLab, в условиях, где нет мощного венчурного плеча, западного грантового рынка и неограниченного доступа к топовым GPU — это просто феноменально. Это история про выживание и эффективность: когда не за счёт миллиардеров и хайпа, а на практике и с реальными кейсами. Если кому интересно, советую посмотреть, что они делают — особенно в части видеоаналитики и распознавания на больших потоках. Приятно, когда находишь такие компании не где-то в долине, а у себя под боком.
@naebrosh
Не так давно наткнулся на компанию, про которую раньше слышал вскользь, а теперь захотел рассказать подробнее — NtechLab. Это ребята, кто делает одну из самых точных в мире систем распознавания лиц. И вот буквально на днях они официально стали российской компанией — редомициляция, новое юрлицо, теперь зарегистрированы в Калининграде.
Сначала подумал: ну окей, очередная смена прописки. Но когда начал копать, понял, насколько это в тему времени.
Во-первых, у них удвоение выручки за 2024 год — 1,7 млрд рублей, 450 новых контрактов, и 70% из них — внутри страны. Во-вторых, компания не просто «выросла» — она реально на передовой в сфере ИИ. По данным американского NIST, их система входит в топ-5 в мире по точности распознавания лиц, и используется уже в 70 регионах России и 34 странах. И всё это — при том, что команда и разработки базируются в РФ.
Сейчас столько разговоров про технологический суверенитет, импортозамещение, свои ИИ-модели и вычисления — а вот тебе реальный пример: компания, которая работает с большими данными, алгоритмами, видеоаналитикой, и делает это не хуже, чем на Западе, а иногда и лучше. И теперь она не просто «работает в России», а официально становится её частью. Это уже не модный стартап, а крепкий технологический игрок. И особенно это важно сейчас — в момент, когда на Западе в ИИ вливают сотни миллиардов, а у нас таких объёмов даже рядом нет.
Для сравнения: Microsoft инвестировала в OpenAI более $13 млрд, Amazon вложила $4 млрд в стартап Anthropic, бюджеты крупнейших ИИ-команд в США и Китае измеряются миллиардами долларов в год. Один только кластер NVIDIA H100 (на котором обучают GPT-подобные модели) может стоить $200–300 млн.
А в России, по самым оптимистичным оценкам, на всё развитие ИИ согласно нацпроекту за 2024–2026 год заложено около 100 млрд рублей — то есть чуть больше $1 млрд на три года. И это на весь рынок — от образования и железа до приложений.
Поэтому появление и рост таких компаний, как NtechLab, в условиях, где нет мощного венчурного плеча, западного грантового рынка и неограниченного доступа к топовым GPU — это просто феноменально. Это история про выживание и эффективность: когда не за счёт миллиардеров и хайпа, а на практике и с реальными кейсами. Если кому интересно, советую посмотреть, что они делают — особенно в части видеоаналитики и распознавания на больших потоках. Приятно, когда находишь такие компании не где-то в долине, а у себя под боком.
@naebrosh


25.04.202513:51
Бюджетное правило: соблюдать нельзя подстраивать
Силуанов заявил, что цену отсечения в бюджетном правиле могут снизить с 60 до 50 долларов за баррель. То есть — возвращаемся почти к старой версии правила, где к 2026 году должен был быть ориентир в 49 долларов. Как водится, прежний вариант даже года не протянул.
Снижение цены отсечения — вроде бы благо: меньше нефтяных денег в бюджете → меньше дефицит → ниже давление на экономику и инфляцию. А значит — спокойнее ситуация с рублём и, возможно, полегче ставка. Но это в теории.
На практике всё сложнее. Если снижаем базовые нефтегазовые доходы, автоматически урезаются госрасходы. В 2023-м цену отсечения подняли с 45 до ~58 долларов, и это накинуло бюджету почти 1% ВВП дефицита. Логично, что снижение до 50 долларов сейчас может дать примерно такой же эффект, но в обратную сторону — сократится дефицит, снизится давление на спрос, и Банк России даже оценивает, что инфляция может замедлиться на 0,1–0,3 п.п. за пару лет. На более geek'ом уровне это всё влияет и на так называемую нейтральную ставку — то есть ту, при которой экономика не перегревается и не охлаждается. Если коротко: меньше госрасходов → меньше дефицит → ниже равновесная ставка. По разным оценкам, на каждые 1% ВВП снижения расходов ставка может снижаться на 0,05–0,2 п.п.
Да, в краткосроке это может немного поджать выпуск (экономическую активность), но если на рынке начнёт оживать частный спрос и особенно инвестиции, то это компенсируется. Теперь главное: этот дефицитный спрос от государства ТОЧНО должен кто-то компенсировать. Но рассчитывать, что это будет частный сектор — рискованная ставка. Потому что если бизнес и люди не начнут больше тратить и инвестировать, то вместо «сбалансированной экономики» мы получим просто спад — с резким снижением совокупного спроса.
А что стимулирует частный спрос? Низкая ключевая ставка. Но вот беда — если ЦБ не решится её снизить, то частный спрос не просто не оживёт — он может ещё сильнее сжаться. Потому что заёмные деньги дорогие, кредиты малодоступны, бизнесу невыгодно инвестировать, людям невыгодно брать ипотеку и т.д. И тогда получится так: госспрос мы сжали, а частный так и не подхватил. А это — уже не макроэкономическая корректировка, а путь к стагнации. Бюджет с виду устойчивый, а в экономике — стагнация и рост безработицы.
Поэтому трюк с «снизим отсечку и всё станет лучше» работает только если соблюдаются условия: у нас должна нормальная ДКП, либо уверенность, что частный сектор сам потянет спрос. А пока этого нет — история выглядит рискованной.
@naebrosh
Силуанов заявил, что цену отсечения в бюджетном правиле могут снизить с 60 до 50 долларов за баррель. То есть — возвращаемся почти к старой версии правила, где к 2026 году должен был быть ориентир в 49 долларов. Как водится, прежний вариант даже года не протянул.
Снижение цены отсечения — вроде бы благо: меньше нефтяных денег в бюджете → меньше дефицит → ниже давление на экономику и инфляцию. А значит — спокойнее ситуация с рублём и, возможно, полегче ставка. Но это в теории.
На практике всё сложнее. Если снижаем базовые нефтегазовые доходы, автоматически урезаются госрасходы. В 2023-м цену отсечения подняли с 45 до ~58 долларов, и это накинуло бюджету почти 1% ВВП дефицита. Логично, что снижение до 50 долларов сейчас может дать примерно такой же эффект, но в обратную сторону — сократится дефицит, снизится давление на спрос, и Банк России даже оценивает, что инфляция может замедлиться на 0,1–0,3 п.п. за пару лет. На более geek'ом уровне это всё влияет и на так называемую нейтральную ставку — то есть ту, при которой экономика не перегревается и не охлаждается. Если коротко: меньше госрасходов → меньше дефицит → ниже равновесная ставка. По разным оценкам, на каждые 1% ВВП снижения расходов ставка может снижаться на 0,05–0,2 п.п.
Да, в краткосроке это может немного поджать выпуск (экономическую активность), но если на рынке начнёт оживать частный спрос и особенно инвестиции, то это компенсируется. Теперь главное: этот дефицитный спрос от государства ТОЧНО должен кто-то компенсировать. Но рассчитывать, что это будет частный сектор — рискованная ставка. Потому что если бизнес и люди не начнут больше тратить и инвестировать, то вместо «сбалансированной экономики» мы получим просто спад — с резким снижением совокупного спроса.
А что стимулирует частный спрос? Низкая ключевая ставка. Но вот беда — если ЦБ не решится её снизить, то частный спрос не просто не оживёт — он может ещё сильнее сжаться. Потому что заёмные деньги дорогие, кредиты малодоступны, бизнесу невыгодно инвестировать, людям невыгодно брать ипотеку и т.д. И тогда получится так: госспрос мы сжали, а частный так и не подхватил. А это — уже не макроэкономическая корректировка, а путь к стагнации. Бюджет с виду устойчивый, а в экономике — стагнация и рост безработицы.
Поэтому трюк с «снизим отсечку и всё станет лучше» работает только если соблюдаются условия: у нас должна нормальная ДКП, либо уверенность, что частный сектор сам потянет спрос. А пока этого нет — история выглядит рискованной.
@naebrosh

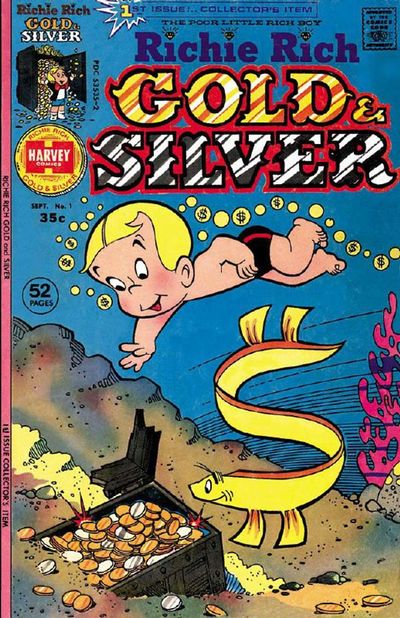
22.04.202515:07
Золото против пузырей: как Трамп меняет приоритеты глобальной экономики
Во вторник цена на золото установила новый исторический максимум — $3500,05 за тройскую унцию. Это не просто скачок на фоне рыночной турбулентности. Это маркер глубокого сдвига в восприятии ценности. Финансовые рынки начинают делать ставку не на цифры в отчетах и не на ожидаемую доходность, а на то, что реально существует. На ресурсы. На активы, которые невозможно "допечатать". Именно такой подход и олицетворяет Дональд Трамп, чья политика противопоставляется логике ультрамягкой монетарной системы, построенной на долге и деривативах.
Всё началось с новой атаки Трампа на главу ФРС Джерома Пауэлла. В своей социальной сети Truth Social он назвал его «Господином Слишком Поздно» и потребовал немедленного снижения ставок. Рынки отреагировали мгновенно: в течение суток золото подскочило более чем на 2%, преодолев историческую отметку. На этом фоне индекс доллара просел почти на 0,8%, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 3,95%, отражая бегство капитала из финансовых инструментов в активы-убежища.
Показательно, что в первые три месяца 2025 года центральные банки мира закупили свыше 290 тонн золота, что является самым высоким квартальным показателем за последние 15 лет. Особенно активны были Китай, Турция и Индия — страны, которые стремятся снизить зависимость от доллара и хеджируются от валютных рисков. Даже Швейцария, традиционно нейтральная к резким движениям, увеличила свои резервы более чем на 10%.
Фондовые рынки ведут себя нервно: в понедельник S&P 500 просел на 2,3%, а Nasdaq потерял 2,7%, отыграв часть потерь лишь после публикации данных по инфляции. Но даже рост на следующий день (+1,9% по S&P и +2,1% по Nasdaq) выглядит скорее технической коррекцией, чем выражением уверенности.
Тем временем, по данным World Gold Council, спрос на физическое золото (не ETF, а именно слитки и монеты) вырос на 34% год к году. Это важный момент: инвесторы начинают уходить от финансовых производных и предпочитают держать реальный актив — в хранилище, а не в виде цифры в брокерском приложении.
Возвращаясь к Трампу — его экономическая модель ещё в первый срок делала ставку на отказ от глобализма, защиту внутреннего производства, тарифы, сырье и промышленность. Он вывел США из Парижского климатического соглашения, вернул уголь в повестку, проводил агрессивную протекционистскую политику. Сейчас всё это возвращается — на фоне растущей геополитической нестабильности и разочарования в «магии рынков».
Важно понимать: конфликт между президентом и ФРС — не просто политическое шоу. На кону — доверие к самой архитектуре мировой финансовой системы. Суммарный объём казначейских бумаг США составляет около $29 трлн, и любые сомнения в их надёжности сразу же отражаются на глобальных потоках капитала. Удар по репутации ФРС — это удар по доллару, по облигациям, по всей системе, в которой «бумажные активы» считались эталоном стабильности.
Именно поэтому золото — с его тысячелетней историей и полной независимостью от чьей-либо политики — снова в моде. Причём не только золото: цены на медь, уран и даже серебро демонстрируют уверенный рост, отражая общий тренд: рынок возвращается к вещам, а не обещаниям.
Вывод прост. Мир входит в новую фазу. Переоценка ценностей — не метафора, а буквально то, что происходит на глазах: переоценка активов, денег, власти, институтов. И Дональд Трамп, со всеми своими противоречиями, стал катализатором этого процесса. Его политика — это ставка на реальное. На то, что можно потрогать, накопить, перевезти, обменять. На ресурсы, а не на мультипликаторы. На золото, а не на PowerPoint-презентации стартапов.
@naebrosh
Во вторник цена на золото установила новый исторический максимум — $3500,05 за тройскую унцию. Это не просто скачок на фоне рыночной турбулентности. Это маркер глубокого сдвига в восприятии ценности. Финансовые рынки начинают делать ставку не на цифры в отчетах и не на ожидаемую доходность, а на то, что реально существует. На ресурсы. На активы, которые невозможно "допечатать". Именно такой подход и олицетворяет Дональд Трамп, чья политика противопоставляется логике ультрамягкой монетарной системы, построенной на долге и деривативах.
Всё началось с новой атаки Трампа на главу ФРС Джерома Пауэлла. В своей социальной сети Truth Social он назвал его «Господином Слишком Поздно» и потребовал немедленного снижения ставок. Рынки отреагировали мгновенно: в течение суток золото подскочило более чем на 2%, преодолев историческую отметку. На этом фоне индекс доллара просел почти на 0,8%, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 3,95%, отражая бегство капитала из финансовых инструментов в активы-убежища.
Показательно, что в первые три месяца 2025 года центральные банки мира закупили свыше 290 тонн золота, что является самым высоким квартальным показателем за последние 15 лет. Особенно активны были Китай, Турция и Индия — страны, которые стремятся снизить зависимость от доллара и хеджируются от валютных рисков. Даже Швейцария, традиционно нейтральная к резким движениям, увеличила свои резервы более чем на 10%.
Фондовые рынки ведут себя нервно: в понедельник S&P 500 просел на 2,3%, а Nasdaq потерял 2,7%, отыграв часть потерь лишь после публикации данных по инфляции. Но даже рост на следующий день (+1,9% по S&P и +2,1% по Nasdaq) выглядит скорее технической коррекцией, чем выражением уверенности.
Тем временем, по данным World Gold Council, спрос на физическое золото (не ETF, а именно слитки и монеты) вырос на 34% год к году. Это важный момент: инвесторы начинают уходить от финансовых производных и предпочитают держать реальный актив — в хранилище, а не в виде цифры в брокерском приложении.
Возвращаясь к Трампу — его экономическая модель ещё в первый срок делала ставку на отказ от глобализма, защиту внутреннего производства, тарифы, сырье и промышленность. Он вывел США из Парижского климатического соглашения, вернул уголь в повестку, проводил агрессивную протекционистскую политику. Сейчас всё это возвращается — на фоне растущей геополитической нестабильности и разочарования в «магии рынков».
Важно понимать: конфликт между президентом и ФРС — не просто политическое шоу. На кону — доверие к самой архитектуре мировой финансовой системы. Суммарный объём казначейских бумаг США составляет около $29 трлн, и любые сомнения в их надёжности сразу же отражаются на глобальных потоках капитала. Удар по репутации ФРС — это удар по доллару, по облигациям, по всей системе, в которой «бумажные активы» считались эталоном стабильности.
Именно поэтому золото — с его тысячелетней историей и полной независимостью от чьей-либо политики — снова в моде. Причём не только золото: цены на медь, уран и даже серебро демонстрируют уверенный рост, отражая общий тренд: рынок возвращается к вещам, а не обещаниям.
Вывод прост. Мир входит в новую фазу. Переоценка ценностей — не метафора, а буквально то, что происходит на глазах: переоценка активов, денег, власти, институтов. И Дональд Трамп, со всеми своими противоречиями, стал катализатором этого процесса. Его политика — это ставка на реальное. На то, что можно потрогать, накопить, перевезти, обменять. На ресурсы, а не на мультипликаторы. На золото, а не на PowerPoint-презентации стартапов.
@naebrosh
登录以解锁更多功能。















