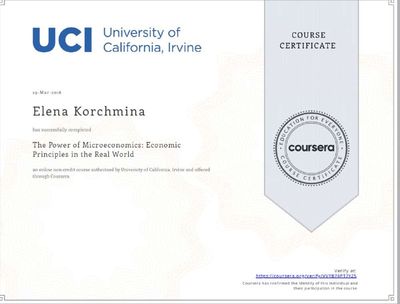Ревизская сказочница
Экономическая история - это постоянные провалы человечества, похмельное состояние с постоянной надеждой на выздоровление (корчмина)
TGlist रेटिंग
0
0
प्रकारसार्वजनिक
सत्यापन
असत्यापितविश्वसनीयता
अविश्वसनीयस्थानРосія
भाषाअन्य
चैनल निर्माण की तिथिЖовт 29, 2023
TGlist में जोड़ा गया
Трав 29, 2024संलग्न समूह
सदस्य
1 376
24 घंटों
534%सप्ताह
1128.9%महीना
18415.4%
उद्धरण सूचकांक
33
उल्लेख1चैनलों पर शेयर0चैनलों पर उल्लेख1
प्रति पोस्ट औसत दृश्य
1 591
12 घंटों317
45.7%24 घंटों1 591
373.5%48 घंटों575
74.5%
सगाई (ER)
12.5%
रिपोस्ट16टिप्पणियाँ5प्रतिक्रियाएँ10
सगाई दर (ERR)
25.45%
24 घंटों
0.06%सप्ताह
28.68%महीना
58.46%
प्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य
578
1 घंटा12621.8%1 - 4 घंटे8013.84%4 - 24 घंटे38766.96%
समूह "Ревизская сказочница" में नवीनतम पोस्ट
19.05.202507:01
А всё-таки она вертится... — а крепостная обладала экономической независимостью.
Одна из глав моей книги посвящена крепостным крестьянкам. И сегодня — небольшая зарисовка оттуда.
Ранее я писала, что, по мнению Энгельгардта, бабий сундук был собственностью женщины: https://t.me/economhistory/599. Это в рамках обсуждения с уважаемым "Деньги и песец"
А вот теперь — цитата из книги Марины Громыко «Мир русской деревни»:
Мой тезис остаётся в силе: крепостная женщина могла иметь экономическую самостоятельность и реальное влияние на ресурсы. Это никак не отменяет патриархального контекста, но и не даёт свести всё к образу «бесправной тени за мужем».
Кажется, я всё это уже когда-то читала — в студенчестве, когда проглатывала всё, что рекомендовали по истории. Но память не энциклопедическая, приходится перечитывать. И знаете что? Это даже приятно. #Бабий_сундук
Одна из глав моей книги посвящена крепостным крестьянкам. И сегодня — небольшая зарисовка оттуда.
Ранее я писала, что, по мнению Энгельгардта, бабий сундук был собственностью женщины: https://t.me/economhistory/599. Это в рамках обсуждения с уважаемым "Деньги и песец"
А вот теперь — цитата из книги Марины Громыко «Мир русской деревни»:
«Имущество, полученное в приданое, оставалось в известной степени в личном распоряжении жены в доме мужа. Степень её независимости в этом отношении имела различия — местные, а также по видам собственности. На Урале, например, личной (не общесемейной) собственностью женщин считался доход от той части земли, которую семья арендовала на деньги, принесённые в приданое. Там же было принято выделять женщинам огородные грядки, доход от которых поступал в их личное распоряжение.
Если в приданое даны были овцы — шерсть с них продавалась в пользу женщины. Скот, принесённый в приданое, считался собственностью невестки, а приплод — уже общей семейной.
Во всех регионах женщинам полагались личные доходы от посевов льна».
Мой тезис остаётся в силе: крепостная женщина могла иметь экономическую самостоятельность и реальное влияние на ресурсы. Это никак не отменяет патриархального контекста, но и не даёт свести всё к образу «бесправной тени за мужем».
Кажется, я всё это уже когда-то читала — в студенчестве, когда проглатывала всё, что рекомендовали по истории. Но память не энциклопедическая, приходится перечитывать. И знаете что? Это даже приятно. #Бабий_сундук
से पुनः पोस्ट किया: Иллюзии Питеродактиля
Иллюзии Питеродактиля
18.05.202507:51
Ну и в день экономической истории - небольшой анонс по профилю. Невзирая на туристический сезон, который обрушился стремительным домкратом, Питеродактиль помнит, что он в первую очередь учёный. Греческое общество экономической истории об этом тоже помнит, и организовало 19 мая заседание, на котором ящер впервые представит свой новый проект. Динозавр безумно благодарен профессору Тзелине Харлафтис за помощь. Подробности тут:
https://hdoisto.gr/en/activities/history-seminar/207/
https://hdoisto.gr/en/activities/history-seminar/207/
18.05.202507:51
Вот что будет завтра!
18.05.202507:01
Урожай — не всегда благо. Как бобылки попадают в локальную ловушку бедности.
Когда мы говорим о мальтузианской ловушке, обычно представляем себе века стагнации: население растёт, ресурсы не поспевают, бедность — постоянна. Но на уровне одной деревни в XIX веке ловушка может проявляться совсем иначе — и это особенно видно на примере бобылки.
Бобылка — это бедная, часто одинокая крестьянка без земли и хлеба, живущая своим маленьким хозяйством. Для неё летнее жниво — единственный шанс пережить зиму. Вот как пишет Александр Энгельгардт в Письмах из деревни:
Но даже в этой системе есть своя конкуренция. Бобылке важно, чтобы «дворовые бабы» — женщины с собственным полем и хлебом — не пошли работать на барские поля. Потому что тогда её труд подешевеет, а нанимателей окажется меньше:
В урожайный год у таких дворовых баб есть выбор. Они не пойдут «за любые деньги» жать чужой хлеб, если можно сварить кашу из своего:
А значит — для помещика это становится проблемой. Он не может собрать урожай, если нет дешёвых рук. И чтобы гарантировать рабочую силу, ему нужно «закабалить баб ещё зимою» — когда у них нет хлеба и выбора:
Это не глобальная мальтузианская ловушка, а локальная, сезонная зависимость, в которой урожайность и наличие хлеба формируют рынок труда. И в этой системе даже хорошее лето не означает выхода из бедности. Потому что безземельная бобылка всё равно пойдёт жать — у неё нет другого выбора. А женщина с землёй — может позволить себе свободу. Но только в этом году.
Так появляется замкнутый круг, где бедность одних делает труд доступным, а относительное благополучие других — разрушает систему найма. И чтобы она работала, нужно, чтобы кто-то оставался без хлеба.
Мальтузианская модель здесь работает — но не как объяснение голода, а как объяснение нестабильного, хрупкого баланса между людьми, землёй и трудом. И чтобы это понять, иногда надо смотреть не с высоты демографических графиков, а с точки зрения каши, хлеба и чьей-то осыпающейся нивы. #Бабий_сундук
Когда мы говорим о мальтузианской ловушке, обычно представляем себе века стагнации: население растёт, ресурсы не поспевают, бедность — постоянна. Но на уровне одной деревни в XIX веке ловушка может проявляться совсем иначе — и это особенно видно на примере бобылки.
Бобылка — это бедная, часто одинокая крестьянка без земли и хлеба, живущая своим маленьким хозяйством. Для неё летнее жниво — единственный шанс пережить зиму. Вот как пишет Александр Энгельгардт в Письмах из деревни:
«Для бобылок жнитво самая важная работа, обеспечивающая их зимнее существование... Так как бобылка хлеба не сеет, своего жнитва дома не имеет, то она охотно нанимается на эту работу...»
Но даже в этой системе есть своя конкуренция. Бобылке важно, чтобы «дворовые бабы» — женщины с собственным полем и хлебом — не пошли работать на барские поля. Потому что тогда её труд подешевеет, а нанимателей окажется меньше:
«Для неё важно, чтобы было как можно менее конкуренции, то есть чтобы меньше было баб, имеющих свой хлеб, своё жнитво и взявших господское жнитво ещё с зимы по нужде».
В урожайный год у таких дворовых баб есть выбор. Они не пойдут «за любые деньги» жать чужой хлеб, если можно сварить кашу из своего:
«Ни одна дворовая баба не бросит свою ниву, своё жнитво и не пойдет ни за какие деньги жать на чужом поле».
А значит — для помещика это становится проблемой. Он не может собрать урожай, если нет дешёвых рук. И чтобы гарантировать рабочую силу, ему нужно «закабалить баб ещё зимою» — когда у них нет хлеба и выбора:
«Чтобы не остаться на жнитво с одними бобылками, нужно закабалить баб ещё зимою, а это возможно только тогда, когда у мужика нет хлеба. Как ни кинь — всё клин»
Это не глобальная мальтузианская ловушка, а локальная, сезонная зависимость, в которой урожайность и наличие хлеба формируют рынок труда. И в этой системе даже хорошее лето не означает выхода из бедности. Потому что безземельная бобылка всё равно пойдёт жать — у неё нет другого выбора. А женщина с землёй — может позволить себе свободу. Но только в этом году.
Так появляется замкнутый круг, где бедность одних делает труд доступным, а относительное благополучие других — разрушает систему найма. И чтобы она работала, нужно, чтобы кто-то оставался без хлеба.
Мальтузианская модель здесь работает — но не как объяснение голода, а как объяснение нестабильного, хрупкого баланса между людьми, землёй и трудом. И чтобы это понять, иногда надо смотреть не с высоты демографических графиков, а с точки зрения каши, хлеба и чьей-то осыпающейся нивы. #Бабий_сундук
17.05.202507:01
Жир против мяса — экономическая история из кастрюли
Сегодня, рассчитывая прожиточный минимум для эконом исторических исследований, мы выводим: в год нужно 5 кг мяса. Но что бы сказал на это крестьянин XIX века?
Я думаю, он скорее согласился бы.
Да, мясо приятно. Но рабочая ценность — не в мясе, а в жире. С точки зрения мужика, энергия труда — в сальности пищи, в том, «чтобы не продувало щи», чтобы всё было с наваром.
Не «мясной обед», а «жирный», «масляный» — вот что значит «сытно» по-русски. Вот с чем связывается производительность.
Это не гастрономический каприз — это энергетическая логика крестьянского быта. Там, где важен результат — косить, копать, возить — нужен не белок, а горючее. Не просто питательность, а сила действия.
Получается, народная кухня веками решала ту же задачу, что сегодня решают НИИ питания — как дешево накормить работника так, чтобы он вынес максимум труда.
Так, простая поговорка «маслом кашу не испортишь» становится формулой энергетической эффективности до появления слова «калории».#food
«Мужик главное значение в пище придаёт жиру… Пища хороша, если она жирна, сдобна, масляна…»
Сегодня, рассчитывая прожиточный минимум для эконом исторических исследований, мы выводим: в год нужно 5 кг мяса. Но что бы сказал на это крестьянин XIX века?
Я думаю, он скорее согласился бы.
Да, мясо приятно. Но рабочая ценность — не в мясе, а в жире. С точки зрения мужика, энергия труда — в сальности пищи, в том, «чтобы не продувало щи», чтобы всё было с наваром.
Не «мясной обед», а «жирный», «масляный» — вот что значит «сытно» по-русски. Вот с чем связывается производительность.
«Если щи — то такие, что не продуешь. Если каша — то с салом. Попова каша с маслицем».
Это не гастрономический каприз — это энергетическая логика крестьянского быта. Там, где важен результат — косить, копать, возить — нужен не белок, а горючее. Не просто питательность, а сила действия.
Получается, народная кухня веками решала ту же задачу, что сегодня решают НИИ питания — как дешево накормить работника так, чтобы он вынес максимум труда.
Какое малое значение придается мясу, видно из того, что рабочий человек всегда согласится на замену мяса водкой. На это, конечно, скажут, что известно, мол, русский человек пьяница, готов продать за водку отца родного и т.п. Но позвольте, однако же тот же рабочий человек не согласится заменить молочную кислоту нормальной пищи водкой, не согласится заменить водкой жир или гречневую кашу.
Так, простая поговорка «маслом кашу не испортишь» становится формулой энергетической эффективности до появления слова «калории».#food
से पुनः पोस्ट किया: Страницы забытых книг
Страницы забытых книг
16.05.202506:55
Харч хороший работать не заставит, если нет личной выгоды сработать более. Если нет выгоды более сработать, если работаешь не на себя, если не работаешь вольно, если работу сам учесть не можешь, то и не заставишь себя более сделать…
Работая, можно приберегать себя, можно работать и на рубль, и на восемь гривен, и на полтину. Даже следует приберегать, если предстоит другая, более выгодная работа.
Всех денег не заберешь, работая сверх сил, только себя надсадишь и это на тебе же потом отзовется, тебе же в убыток будет.
Люди точно знают, на какой пище сколько сработаешь, какая пища к какой работе подходит.
Если при пище, состоящей из щей с солониной и гречневой каши с салом, вывезешь в известное время, положим, один куб земли, то при замене гречневой каши ячною вывезешь менее, примерно, куб без осьмушки, на картофеле — еще меньше, три четверти куба и т. д.
Все это грабору, резчику дров, пильщику, совершенно точно известно, так что, зная цену харчей и работы, он может совершенно точно расчесть, какой ему харч выгоднее, — и рассчитывает.
Это точно паровая машина. Свою машину он знает, я думаю, еще лучше, чем машинист паровую, знает, когда, сколько и каких дров следует положить, чтобы получить известный эффект.
Точно так же и относительно того, какая пища для какой работы способнее: при косьбе, например, скажут вам, требуется пища прочная, которая бы, как выражается мужик, к земле тянула, потому что при косьбе нужно крепко стоять на ногах, как пень быть, так сказать, вбитым в землю каждый момент, когда делаешь взмах косой, наоборот, молотить лучше натощак, чтобы быть полегче.
Уж на что до тонкости изучили кормление скота немецкие ученые скотоводы, которые знают, сколько и какого корма нужно дать, чтобы откормить быка или получить наибольшее количество молока от коровы, а граборы, думаю я, в вопросах питания рабочего человека заткнут за пояс агрономов. Оно и понятно, на своей кишке испытывают
Цитата: А.Н. Энгельгардт «Письма из деревни»
Илл: К.Е. Маковский «Крестьянский обед»
Работая, можно приберегать себя, можно работать и на рубль, и на восемь гривен, и на полтину. Даже следует приберегать, если предстоит другая, более выгодная работа.
Всех денег не заберешь, работая сверх сил, только себя надсадишь и это на тебе же потом отзовется, тебе же в убыток будет.
Люди точно знают, на какой пище сколько сработаешь, какая пища к какой работе подходит.
Если при пище, состоящей из щей с солониной и гречневой каши с салом, вывезешь в известное время, положим, один куб земли, то при замене гречневой каши ячною вывезешь менее, примерно, куб без осьмушки, на картофеле — еще меньше, три четверти куба и т. д.
Все это грабору, резчику дров, пильщику, совершенно точно известно, так что, зная цену харчей и работы, он может совершенно точно расчесть, какой ему харч выгоднее, — и рассчитывает.
Это точно паровая машина. Свою машину он знает, я думаю, еще лучше, чем машинист паровую, знает, когда, сколько и каких дров следует положить, чтобы получить известный эффект.
Точно так же и относительно того, какая пища для какой работы способнее: при косьбе, например, скажут вам, требуется пища прочная, которая бы, как выражается мужик, к земле тянула, потому что при косьбе нужно крепко стоять на ногах, как пень быть, так сказать, вбитым в землю каждый момент, когда делаешь взмах косой, наоборот, молотить лучше натощак, чтобы быть полегче.
Уж на что до тонкости изучили кормление скота немецкие ученые скотоводы, которые знают, сколько и какого корма нужно дать, чтобы откормить быка или получить наибольшее количество молока от коровы, а граборы, думаю я, в вопросах питания рабочего человека заткнут за пояс агрономов. Оно и понятно, на своей кишке испытывают
Цитата: А.Н. Энгельгардт «Письма из деревни»
Илл: К.Е. Маковский «Крестьянский обед»


16.05.202506:54
Экономическая история — на кончике ложки
Меня завораживают рассуждения Энгельгардта о еде :)
Рабочий XIX века — не просто исполнитель. Он — тонкий бухгалтер. Он точно знает, какая пища сколько работы приносит, как топливо в двигателе:
- на щах с солониной и гречневой каше с салом — куб земли,
- на ячке — чуть меньше,
- на одной картошке — ещё меньше.
Эта арифметика — в теле и в буднях. Пища подбирается под задачу: «при косьбе нужна пища прочная — к земле тянула», а молотить — лучше налегке.
Это и есть живая экономика. Без графиков и формул, но с точным знанием себя как производственной единицы. Не хуже, чем машинист знает паровоз, крестьянин знал: когда, сколько и чего съесть, чтобы выдать нужный результат. И в этом — подлинная связь питания и производительности, желудка и зарплаты.
Эффективность начинается с энергии, а энергия — с завтрака?:) #food
Меня завораживают рассуждения Энгельгардта о еде :)
«Ешь картошку — на картошку сработаешь, ешь кашу — на кашу сработаешь».
«Это точно паровая машина. Свою машину он знает…»
Рабочий XIX века — не просто исполнитель. Он — тонкий бухгалтер. Он точно знает, какая пища сколько работы приносит, как топливо в двигателе:
- на щах с солониной и гречневой каше с салом — куб земли,
- на ячке — чуть меньше,
- на одной картошке — ещё меньше.
Эта арифметика — в теле и в буднях. Пища подбирается под задачу: «при косьбе нужна пища прочная — к земле тянула», а молотить — лучше налегке.
Это и есть живая экономика. Без графиков и формул, но с точным знанием себя как производственной единицы. Не хуже, чем машинист знает паровоз, крестьянин знал: когда, сколько и чего съесть, чтобы выдать нужный результат. И в этом — подлинная связь питания и производительности, желудка и зарплаты.
Эффективность начинается с энергии, а энергия — с завтрака?:) #food
15.05.202507:01
И снова о питании
Читая письма Энгельгардта, невозможно не поразиться — тухлая рыба была важнейшей частью рациона крестьянской России. Мы говорим "тухлая" не в смысле слегка залежавшаяся, а буквально смердящая, гниющая, облитая нечистотами и выкапываемая из земли после санитарных запретов.
Во время эпидемий врачи пытались бороться с опасной пищей:
Рыба — дешевый и питательный продукт, доступный даже самым бедным. И никакая «дезинфекция» не могла заменить привычку:
Парадоксально, но протухшее — это не обязательно вредное:
И санитарная логика тут бессильна:
Но что интересно — ведь по сути, всё это мало чем отличается от благородного западного сыра.
Тот же мужик, что с аппетитом ест тухлую сельдь,
Воняет-то одинаково. Только один — "еду", другой — "ядом" считает. И вот тебе вся разница между деликатесом и помоями — в контексте, в привычке, в цене. #food
Читая письма Энгельгардта, невозможно не поразиться — тухлая рыба была важнейшей частью рациона крестьянской России. Мы говорим "тухлая" не в смысле слегка залежавшаяся, а буквально смердящая, гниющая, облитая нечистотами и выкапываемая из земли после санитарных запретов.
Во время эпидемий врачи пытались бороться с опасной пищей:
«Приказано было врачам осматривать рыбу и, чуть заметят в ней чуму, полиция должна была уничтожать заражённую рыбу… сожигаемую, признанную вредною, тухлую рыбу… всё-таки утаскивали с костров, вырывали из земли и пожирали».
Рыба — дешевый и питательный продукт, доступный даже самым бедным. И никакая «дезинфекция» не могла заменить привычку:
«Мужик… будет есть ржавую селёдку, тронувшуюся коренную рыбу, давшую дух солонину».
Парадоксально, но протухшее — это не обязательно вредное:
«Всё дело в привычке… Настоящие охотники никогда свежей дичи не едят, а дают ей предварительно повисеть… Камчадалы питаются квашеной в ямах рыбой…»
И санитарная логика тут бессильна:
«Может ли по запаху узнать, что в такой-то колбасе, в такой-то рыбе есть яд?.. Пахнет — уничтожай. А рыбу… ели. И никто не умирал».
Но что интересно — ведь по сути, всё это мало чем отличается от благородного западного сыра.
«А рокфор, который весь пронизан зелеными грибками… лимбургский сыр… полужидкая, вонючая масса. А ведь едят же и не умирают».
Тот же мужик, что с аппетитом ест тухлую сельдь,
«…не выносит запаха сыра и удивляется, как это господа “могут есть эту сыру”, дух-то от неё какой!»
Воняет-то одинаково. Только один — "еду", другой — "ядом" считает. И вот тебе вся разница между деликатесом и помоями — в контексте, в привычке, в цене. #food
14.05.202512:10
Обычно не пишу больше одного поста в день и не отвлекаюсь на новостную повестку, но об образовании нужно говорить.
Одна из тем, которая редко обсуждается всерьёз — а нужно бы — это роль высшего образования в современном обществе. Беру в пример Великобританию. Здесь выпускников университетов стало так много, что они просто переполняют рынок труда. Количество — зашкаливает, а зарплата не растет.
Если мы увеличиваем "предложение" людей с высшим образованием, но спрос на квалифицированный труд не поспевает — то закономерно снижается зарплата, премия за "вышку" уменьшается. В итоге минимальная почасовая оплата за неквалифицированный труд в Англии сейчас почти сравнялась с оплатой на стартовых позициях для людей с дипломом. Разница в карьерных перспективах остаётся, да, но суть проблемы это не отменяет.
В феврале 2025 BBC сообщила, что число молодых людей (16–24 лет), не занятых ни в учёбе, ни в работе, ни в обучении (NEET), достигло максимума за последние 11 лет.
🔗 Ссылка на статью
Что это говорит нам? Возможно, нам пора задать себе неудобный вопрос: а нужно ли человечеству столько людей с высшим образованием? Или мы создаём армию дипломированных работников без востребованного применения?
Иногда кажется, что общество догоняет не смысл образования, а его иллюзию.
Одна из тем, которая редко обсуждается всерьёз — а нужно бы — это роль высшего образования в современном обществе. Беру в пример Великобританию. Здесь выпускников университетов стало так много, что они просто переполняют рынок труда. Количество — зашкаливает, а зарплата не растет.
Если мы увеличиваем "предложение" людей с высшим образованием, но спрос на квалифицированный труд не поспевает — то закономерно снижается зарплата, премия за "вышку" уменьшается. В итоге минимальная почасовая оплата за неквалифицированный труд в Англии сейчас почти сравнялась с оплатой на стартовых позициях для людей с дипломом. Разница в карьерных перспективах остаётся, да, но суть проблемы это не отменяет.
В феврале 2025 BBC сообщила, что число молодых людей (16–24 лет), не занятых ни в учёбе, ни в работе, ни в обучении (NEET), достигло максимума за последние 11 лет.
🔗 Ссылка на статью
Что это говорит нам? Возможно, нам пора задать себе неудобный вопрос: а нужно ли человечеству столько людей с высшим образованием? Или мы создаём армию дипломированных работников без востребованного применения?
Иногда кажется, что общество догоняет не смысл образования, а его иллюзию.
14.05.202507:01
Экономическая история и еда.
Сцена простая: осень, крестьяне-грабары у костра едят варёную картошку. Энгельгардт удивлён: как так — народ зажиточный, а питается скудно? Но ответ рядчика оказывается глубоко экономическим.
👉 Они едят хуже не потому, что бедны, а потому что работают подённо. Платят фиксированно — значит, нет смысла стараться и, следовательно, нет смысла вкладываться в питание. А вот при сдельной оплате, где чем больше сделаешь — тем больше заработаешь, и еда становится "прочнее": щи с ветчиной, каша, сало. Потому что тогда — есть мотивация работать больше и, значит, есть лучше.
Это простое наблюдение — почти формула производительности:
Энгельгардт видел то, что позже стало темами для целых экономических теорий: связь между стимулами, вложениями и результатом труда. История — в диалоге у костра. #food
«Ешь картошку — на картошку сработаешь, ешь кашу — на кашу сработаешь».
Сцена простая: осень, крестьяне-грабары у костра едят варёную картошку. Энгельгардт удивлён: как так — народ зажиточный, а питается скудно? Но ответ рядчика оказывается глубоко экономическим.
👉 Они едят хуже не потому, что бедны, а потому что работают подённо. Платят фиксированно — значит, нет смысла стараться и, следовательно, нет смысла вкладываться в питание. А вот при сдельной оплате, где чем больше сделаешь — тем больше заработаешь, и еда становится "прочнее": щи с ветчиной, каша, сало. Потому что тогда — есть мотивация работать больше и, значит, есть лучше.
Это простое наблюдение — почти формула производительности:
"Как поедаешь, так и поработаешь".
Нет, - продолжал он, - нет, харч работать не заставит, вам невыгодно будет, и так положенное работаем. Тогда бы у нас харч в жир пошел, мы бы тогда у вас за осень во как отъелись, ребята ни одной бабе проходу не дали бы!
Энгельгардт видел то, что позже стало темами для целых экономических теорий: связь между стимулами, вложениями и результатом труда. История — в диалоге у костра. #food
13.05.202507:02
Когда читаешь Энгельгардта, особенно такие отрывки, как этот, невольно задумываешься, насколько сильно меняются стандарты красоты и силы от эпохи к эпохе:
По меркам того времени "здоровая" женщина — это высокая, сильная, выносливая и сытая. Те самые "богачки", о которых пишет Энгельгардт, сегодня не соответствовали бы идеалам типа 90-60-90. Кстати, а эти идеалы еще в силе? А вот бедные, хилые, истощённые женщины — были бы моделями.
Мы привыкли слышать о "тяжёлой женской доле" в деревне, но чаще всего — через судьбы тех, кто стоял на нижних ступенях этой иерархии. Слабые, измождённые женщины становились наиболее уязвимыми — и именно их истории чаще всего попадали в фольклор и литературу.
На деле же внутри женского сообщества существовала чёткая иерархия: сильные, здоровые женщины занимали своё место, получали больше работы, уважения и лучших шансов на удачное замужество. Слабые — оказывались в самом уязвимом положении, порой — на грани выживания.
Энгельгардт показывает нам мир, где женщина — это не просто "бедная страдалица", а активный участник жесткой борьбы за место под солнцем. И чтобы понять реальную историю, надо видеть не только страдания, но и скрытую женскую конкуренцию, которая существовала задолго до наших разговоров о "женской солидарности".#Бабий_сундук
"Брать лен и мять его приходят не только бедные бабы, но и богатые, даже можно сказать, что богачки производят главную массу работы и забирают большую часть денег, выдаваемых за выборку и мятье. В богатых дворах бабы все сильные, рослые, здоровые, сытые, ловкие. Богач не женится на каком-нибудь заморыше, а если случайно попадет на плохую бабенку — ужаснее и положения нельзя себе представить, как положение такой плохой бабенки среди богатого двора, где множество здоровых невесток, — то заколотит, забьет, в гроб вгонит и тогда женится на другой. Сытые богачки наминают до 1½ пуда льну, тогда как бабы бедняков, малорослые, тщедушные, слабосильные наминают в то же время по 30 фунтов."
По меркам того времени "здоровая" женщина — это высокая, сильная, выносливая и сытая. Те самые "богачки", о которых пишет Энгельгардт, сегодня не соответствовали бы идеалам типа 90-60-90. Кстати, а эти идеалы еще в силе? А вот бедные, хилые, истощённые женщины — были бы моделями.
Мы привыкли слышать о "тяжёлой женской доле" в деревне, но чаще всего — через судьбы тех, кто стоял на нижних ступенях этой иерархии. Слабые, измождённые женщины становились наиболее уязвимыми — и именно их истории чаще всего попадали в фольклор и литературу.
На деле же внутри женского сообщества существовала чёткая иерархия: сильные, здоровые женщины занимали своё место, получали больше работы, уважения и лучших шансов на удачное замужество. Слабые — оказывались в самом уязвимом положении, порой — на грани выживания.
Энгельгардт показывает нам мир, где женщина — это не просто "бедная страдалица", а активный участник жесткой борьбы за место под солнцем. И чтобы понять реальную историю, надо видеть не только страдания, но и скрытую женскую конкуренцию, которая существовала задолго до наших разговоров о "женской солидарности".#Бабий_сундук
12.05.202507:01
Читая Энгельгардта, снова видишь, насколько сложной и противоречивой была Россия XIX века. И насколько мы часто неправильно её себе представляем. Вот короткий, но важный фрагмент:
Это напоминает нам не только о нюансах правовой системы того времени, но и о важном законе экономической истории:
любой порядок, даже самый несправедливый с нашей точки зрения, существует потому, что он отражает баланс интересов. Как бы это ни выглядело со стороны, всегда есть механизмы, которые удерживают систему — будь то правосудие, рынок труда, земельные отношения или неформальные нормы.
Парето-оптимальность никто не отменял: если структура держится, значит, она в какой-то степени эффективна для определённых групп. В России XIX века это были не только помещики и чиновники, но и сами крестьяне, для которых привычная "неформальная" справедливость казалась более понятной и надёжной, чем формальное право.
Экономическая история учит смотреть на прошлое через логику интересов, сделок, компромиссов, а не только через наше сегодняшнее возмущение.
Только тогда мы по-настоящему поймем, почему Россия развивалась именно так, а не иначе
"К сожалению, у нас до сих пор еще большинство не знает, что, если генерал ударит мужика, то мировой судья взыщет с него, как с образованного человека, строже, чем с мужика. Напротив, большинство думает, что если генерал ударит мужика, так ему ничего не будет, а если мужик ударит генерала, то его в Сибирь сошлют."
Это напоминает нам не только о нюансах правовой системы того времени, но и о важном законе экономической истории:
любой порядок, даже самый несправедливый с нашей точки зрения, существует потому, что он отражает баланс интересов. Как бы это ни выглядело со стороны, всегда есть механизмы, которые удерживают систему — будь то правосудие, рынок труда, земельные отношения или неформальные нормы.
Парето-оптимальность никто не отменял: если структура держится, значит, она в какой-то степени эффективна для определённых групп. В России XIX века это были не только помещики и чиновники, но и сами крестьяне, для которых привычная "неформальная" справедливость казалась более понятной и надёжной, чем формальное право.
Экономическая история учит смотреть на прошлое через логику интересов, сделок, компромиссов, а не только через наше сегодняшнее возмущение.
Только тогда мы по-настоящему поймем, почему Россия развивалась именно так, а не иначе
11.05.202507:01
О Собаках и сторожах.
Продолжаю читать Энгельгардта. Иногда в его рассказах о быте встречаются удивительные эпизоды, которые многое объясняют в экономической истории России.
Что здесь важно для понимания экономической истории?
Рационализация "отсталости"
Энгельгардт показывает, что даже на фоне архаичной, "азиатской" по впечатлению чиновника жизни, помещик действует вполне рационально с точки зрения затрат и выгод. Собаки дешевле, чем наемные рабочие. Это своего рода "экономика бедности": низкий уровень монетизации и ориентация на минимизацию затрат даже ценой повышения рисков (укусы, штрафы).
Устаревшая инфраструктура как экономический фактор
Усадьба "разбросанная", построена при крепостном праве, то есть не адаптирована к новой реальности после отмены крепостного права. Старые формы хозяйствования требуют особых мер охраны и управления, что увеличивает издержки. Это важное напоминание: даже после реформ старые институциональные структуры продолжали влиять на экономические решения.
Нарушения норм как стратегия
Помещик понимает риски (укус, штраф), но оценивает их как очень маловероятные и ограниченные по стоимости. Это иллюстрирует важный момент: в условиях слабости правовых институтов или их "дешевизны" (маленький штраф) экономические агенты могут сознательно включать нарушение норм в стратегии выживания.
Проблема рабочей силы
Идея заменить собак сторожами говорит о том, что рабочая сила на селе стоит денег (100 рублей в год — заметные расходы для небольшого хозяйства). Это косвенно свидетельствует о дефиците труда после отмены крепостного права и росте его стоимости, что тоже важный сюжет в экономической истории России XIX века.
Цивилизационная дилемма "Европа или Азия"
Сам диалог чиновника с помещиком о "Европе" и "Азии" подчеркивает восприятие российской деревни как чего-то отличного от европейских стандартов экономики и права. Это важный элемент экономической культуры и самовосприятия, который влиял на пути развития.
Энгельгардт точно описывает момент или все-таки просто на сломе эпох заметнее привычное?
Продолжаю читать Энгельгардта. Иногда в его рассказах о быте встречаются удивительные эпизоды, которые многое объясняют в экономической истории России.
"- А вы кто? - спросил он, совершенно уже другим тоном.
Я назвал себя.
Однако ж, согласитесь, как же можно держать таких злых собак?
Хозяйственный расчет, - отвечал я, смеясь.
Какой же тут может быть расчет?
Помилуйте, как же не расчет? Чтобы охранять такую разбросанную усадьбу, как моя — построена ведь при крепостном еще праве, — нужно было бы взамен собак иметь еще двух хороших сторожей, содержание сторожа обойдется сто рублей, двух сторожей 200 рублей, в пять лет 1000 рублей. Как бы ни были злы собаки, простые дворняжки только лают и редко когда кусаются, притом же едущего в экипаже собаки не могут укусить, а пешеходы всегда берут палки, особенно подходя к усадьбе — посмотрите, как растаскали за зиму тын около огорода, — но допустим, что собаки кого-нибудь укусят, наибольший штраф, что может назначить мировой судья, — сто рублей, мало вероятности, чтобы это могло случиться более одного раза в пять лет, следовательно..."
Чиновник рассмеялся.
"- Помилуйте, да ведь это — Азия.
А вы думали, что здесь Европа? Вы куда едете?"
Что здесь важно для понимания экономической истории?
Рационализация "отсталости"
Энгельгардт показывает, что даже на фоне архаичной, "азиатской" по впечатлению чиновника жизни, помещик действует вполне рационально с точки зрения затрат и выгод. Собаки дешевле, чем наемные рабочие. Это своего рода "экономика бедности": низкий уровень монетизации и ориентация на минимизацию затрат даже ценой повышения рисков (укусы, штрафы).
Устаревшая инфраструктура как экономический фактор
Усадьба "разбросанная", построена при крепостном праве, то есть не адаптирована к новой реальности после отмены крепостного права. Старые формы хозяйствования требуют особых мер охраны и управления, что увеличивает издержки. Это важное напоминание: даже после реформ старые институциональные структуры продолжали влиять на экономические решения.
Нарушения норм как стратегия
Помещик понимает риски (укус, штраф), но оценивает их как очень маловероятные и ограниченные по стоимости. Это иллюстрирует важный момент: в условиях слабости правовых институтов или их "дешевизны" (маленький штраф) экономические агенты могут сознательно включать нарушение норм в стратегии выживания.
Проблема рабочей силы
Идея заменить собак сторожами говорит о том, что рабочая сила на селе стоит денег (100 рублей в год — заметные расходы для небольшого хозяйства). Это косвенно свидетельствует о дефиците труда после отмены крепостного права и росте его стоимости, что тоже важный сюжет в экономической истории России XIX века.
Цивилизационная дилемма "Европа или Азия"
Сам диалог чиновника с помещиком о "Европе" и "Азии" подчеркивает восприятие российской деревни как чего-то отличного от европейских стандартов экономики и права. Это важный элемент экономической культуры и самовосприятия, который влиял на пути развития.
Энгельгардт точно описывает момент или все-таки просто на сломе эпох заметнее привычное?
10.05.202507:01
Читаю Энгельгардта. В одном из писем он с искренним удивлением пишет:
С его точки зрения — всё логично. Рационально. Экономия труда, ресурсов, топлива. Оптимизация, так сказать.
Но вот что поразительно: он совсем не учитывает, что печь — это не только кухня, это ещё и тепло. Что для многих еда — не просто калории, а вкус, привычка, ритуал. Что не все хотят есть одно и то же, варёное на всех. А работать «на себя» — это не просто тяжелее, это принципиально другая мотивация. Это собственное, а не общее.
Фактически Энгельгардт ратует за раннюю модель колхоза. Или, если смягчить — артели, кооператива. И вот я думаю, к чему это все-таки ближе?
«В деревне, лежащей от меня в полуверсте… находится 14 дворов. В этих 14-ти дворах ежедневно топится 14 печей, в которых 14 хозяек готовят, каждая для своего двора, пищу. Какая громадная трата труда, пищевых материалов, топлива и пр.! Если бы все 14 дворов сообща пекли хлеб и готовили пищу, то достаточно было бы топить две печи и иметь двух хозяек… У меня, помещику, например, всё обходится несравненно дешевле, чем крестьянам, потому что у меня всё делается огульно, сообща. Мои батраки, конечно, работают не так старательно, как крестьяне на себя, но так как они работают артелью, то во многих случаях… сделают более, чем такое же количество крестьян, работающих поодиночке».
С его точки зрения — всё логично. Рационально. Экономия труда, ресурсов, топлива. Оптимизация, так сказать.
Но вот что поразительно: он совсем не учитывает, что печь — это не только кухня, это ещё и тепло. Что для многих еда — не просто калории, а вкус, привычка, ритуал. Что не все хотят есть одно и то же, варёное на всех. А работать «на себя» — это не просто тяжелее, это принципиально другая мотивация. Это собственное, а не общее.
Фактически Энгельгардт ратует за раннюю модель колхоза. Или, если смягчить — артели, кооператива. И вот я думаю, к чему это все-таки ближе?
08.05.202507:01
А сколько нужно прочитать, чтобы у тебя появилось мнение?
Сегодня — примерно две статьи, один стрим на YouTube и пост на Reddit. Всё, ты эксперт по финансовой системе России, устойчивости рубля, НЭПу, Silicon Valley Bank и моральной цене зелёной энергетики.
Мнение стало новой формой самообороны. У тебя должно быть мнение по всему — от крепостного права до замены лития в электромобилях. Нет мнения? Ты либо глуп, либо безразличен. А сказать: «я ещё изучаю» — вообще табу. Так не делают.
Но вот что забавно: я решила почитать что-то одно. Открыла Global Slavery Index — свежий отчёт вот он, если что. И что там?
То есть, чтобы спасти планету, мы... возможно, эксплуатируем людей в теневой экономике? Красота. А теперь у меня есть мнение? Или мне нужно ещё прочитать пару статей?
И да — я прочитала только один отчёт, чтобы написать этот пост. Ни кандидатскую, ни цикл лекций на Coursera. Один PDF.
Так что моё мнение — временное. С подстраховкой. На правах версии 0.1. Потому что, может быть, чтобы по-настоящему иметь мнение, нужно не просто читать — а сомневаться, сравнивать, жить с темой. А не торопиться в эксперты.
Иногда честнее сказать: я не уверена. Но я думаю.
Сегодня — примерно две статьи, один стрим на YouTube и пост на Reddit. Всё, ты эксперт по финансовой системе России, устойчивости рубля, НЭПу, Silicon Valley Bank и моральной цене зелёной энергетики.
Мнение стало новой формой самообороны. У тебя должно быть мнение по всему — от крепостного права до замены лития в электромобилях. Нет мнения? Ты либо глуп, либо безразличен. А сказать: «я ещё изучаю» — вообще табу. Так не делают.
Но вот что забавно: я решила почитать что-то одно. Открыла Global Slavery Index — свежий отчёт вот он, если что. И что там?
"Современное рабство пронизывает всю цепочку поставок солнечных панелей — от добычи кварца до сборки модулей."
То есть, чтобы спасти планету, мы... возможно, эксплуатируем людей в теневой экономике? Красота. А теперь у меня есть мнение? Или мне нужно ещё прочитать пару статей?
И да — я прочитала только один отчёт, чтобы написать этот пост. Ни кандидатскую, ни цикл лекций на Coursera. Один PDF.
Так что моё мнение — временное. С подстраховкой. На правах версии 0.1. Потому что, может быть, чтобы по-настоящему иметь мнение, нужно не просто читать — а сомневаться, сравнивать, жить с темой. А не торопиться в эксперты.
Иногда честнее сказать: я не уверена. Но я думаю.
रिकॉर्ड
19.05.202523:59
1.4Kसदस्य20.03.202523:59
300उद्धरण सूचकांक15.05.202509:59
4.4Kप्रति पोस्ट औसत दृश्य14.02.202523:59
591प्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य03.07.202423:59
25.00%ER15.05.202508:53
343.10%ERRअधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।