
Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Инсайдер UA

Реальна Війна | Україна | Новини

Лачен пише

Nairaland Pulse | News

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Лёха в Short’ах Long’ует

БКЗ 🦖 Святослав Иванов
Мы своё призванье не забудем:
Шум и ярость мы приносим людям
Для связи: @espritdescalier_bot
Реклама на YouTube: @serejabaao
Поддержать:
https://boosty.to/sviatos
Шум и ярость мы приносим людям
Для связи: @espritdescalier_bot
Реклама на YouTube: @serejabaao
Поддержать:
https://boosty.to/sviatos
TGlist rating
0
0
TypePublic
Verification
Not verifiedTrust
Not trustedLocationРосія
LanguageOther
Channel creation dateOct 10, 2017
Added to TGlist
Jun 06, 2024Linked chat
БС
Буквы • Кадры • Звуки Chat
27
Records
17.05.202523:59
5.5KSubscribers09.04.202518:11
400Citation index13.03.202523:59
1.8KAverage views per post15.02.202523:59
1.2KAverage views per ad post11.04.202510:07
10.25%ER15.03.202523:59
34.21%ERRGrowth
Subscribers
Citation index
Avg views per post
Avg views per ad post
ER
ERR
29.04.202511:55
<strike>Меня часто спрашивают</strike> Эпизодически зрители и читатели интересуются, кто я такой, откуда взялся, где учился и работал, как пришёл к тому, чем занимаюсь. В подкасте дорогого Дениса Оптимисстера «Таков путь» я ответил буквально на все эти вопросы — о многих этих вещах я вообще никогда не говорил публично. Журналистика и блогинг, музыка и литература, детство, преподавание и всё-всё-всё.
P.S.: В комментариях у Дениса метко замечают, что под девизом «Никогда не останавливайся» вещает человек, который уже давненько ничего не выпускал; период сейчас непростой и загруженный, но я однозначно не останавливаюсь и готовлю, на мой взгляд, весьма эпичный ролик длиной около часа — он наступит скоро, надо только подождать!
В общем, гляньте нашу беседу — надеюсь, получилось интересно: https://www.youtube.com/watch?v=Y52MnHkiEH4
P.S.: В комментариях у Дениса метко замечают, что под девизом «Никогда не останавливайся» вещает человек, который уже давненько ничего не выпускал; период сейчас непростой и загруженный, но я однозначно не останавливаюсь и готовлю, на мой взгляд, весьма эпичный ролик длиной около часа — он наступит скоро, надо только подождать!
В общем, гляньте нашу беседу — надеюсь, получилось интересно: https://www.youtube.com/watch?v=Y52MnHkiEH4
01.05.202507:42
Недавно мой подписчик Антон поделился со мной музыкальной жемчужиной, очень точно предположив, что она мне понравится. Этот проект не был мне известен ранее — не исключаю, что многие из вас его давно знают, но уверен, что больше таких, кто тоже ничего о нём не слышали, но для кого это тоже будет приятной находкой.
Это московская группа «Инна Пиварс и Гистрионы» и конкретно её альбом 2021 года «Певчие птицы в лесу берендеев». По первому впечатлению это традиционный психоделический поп/фолк: приходят в голову Донован, Вашти Баньян и Pink Floyd при Барретте. Однако есть здесь что-то ещё — на самом деле, напрямую проговоренное авторами: ориентация здесь не только и не столько на британские 60-е, сколько на советские ВИА 70-х.
Послушав «Певчих птиц…», я даже в некоторой степени вернулся к ВИА как таковым, стал ликвидировать пробелы и почитывать плохо систематизированную информацию на тему. Среди прочего, мне показалась любопытной такая мысль: их по большей части плоское звучание, недостаточно авантюрное по сравнению с западным роком того времени, было плодом не цензурных ограничений, а недостаточной технической подкованности. Дескать, не столько советским музыкантам «мешали» пилить психоделию и хард-рок, сколько у них не получалось их играть и записывать из-за низкокачественной аппаратуры и не особо умелых звукачей.
Думаю, что эта трактовка верна всё-таки где-то наполовину: стоит послушать подпольные альбомы Юрия Морозова (в особенности, «Свадьбу кретинов») встык с какими-нибудь «Самоцветами» той же поры — и становится понятно, что сущностно мейнстримовая советская музыка была далековата от труЪ-рока. Но всё же ВИА не были такими пустышками, какими по умолчанию кажутся слушателю, сформированному западным каноном в перемешку с горби-роком: в конце концов, из этого ВИА-компоста произросли те самые «По волне моей памяти» и «Сто лет одиночества», о чьих достоинствах я сказал так много добрых слов. (К слову так, послушайте вот это с мыслями о Летове)
Так вот, «Гистрионы» реконструируют ВИА-шную эстетику, в первую очередь её наивно-радостный, мечтательно-романтический тон, но дополняют её более проработанным звуком, который ближе к психоделическим стандартам конца 60-х, чем это могли себе позволить сами ВИА (по какой бы то ни было причине). В процессе между советской арт-попсой и англоязычным арт-роком и фолком обнаруживаются новые (или, по крайней мере, укрепляются старые) переклички — скажем, связанные с (псевдо-?)фольклорной, сказочной эстетикой, не случайно же обложка альбома так отчётливо отсылает к Билибину.
К сожалению, это не та разновидность ретро-музыки, которая пользуется успехом в современной России — видимо, чтобы получить должное признание, авторам нужно было бы собраться где-нибудь в Мельбурне. Но на мой взгляд, «Певчие птицы в лесу берендеев» можно с лёгкостью и уверенностью поместить в топ-5 русскоязычных альбомов 2020-х.
Это московская группа «Инна Пиварс и Гистрионы» и конкретно её альбом 2021 года «Певчие птицы в лесу берендеев». По первому впечатлению это традиционный психоделический поп/фолк: приходят в голову Донован, Вашти Баньян и Pink Floyd при Барретте. Однако есть здесь что-то ещё — на самом деле, напрямую проговоренное авторами: ориентация здесь не только и не столько на британские 60-е, сколько на советские ВИА 70-х.
Послушав «Певчих птиц…», я даже в некоторой степени вернулся к ВИА как таковым, стал ликвидировать пробелы и почитывать плохо систематизированную информацию на тему. Среди прочего, мне показалась любопытной такая мысль: их по большей части плоское звучание, недостаточно авантюрное по сравнению с западным роком того времени, было плодом не цензурных ограничений, а недостаточной технической подкованности. Дескать, не столько советским музыкантам «мешали» пилить психоделию и хард-рок, сколько у них не получалось их играть и записывать из-за низкокачественной аппаратуры и не особо умелых звукачей.
Думаю, что эта трактовка верна всё-таки где-то наполовину: стоит послушать подпольные альбомы Юрия Морозова (в особенности, «Свадьбу кретинов») встык с какими-нибудь «Самоцветами» той же поры — и становится понятно, что сущностно мейнстримовая советская музыка была далековата от труЪ-рока. Но всё же ВИА не были такими пустышками, какими по умолчанию кажутся слушателю, сформированному западным каноном в перемешку с горби-роком: в конце концов, из этого ВИА-компоста произросли те самые «По волне моей памяти» и «Сто лет одиночества», о чьих достоинствах я сказал так много добрых слов. (К слову так, послушайте вот это с мыслями о Летове)
Так вот, «Гистрионы» реконструируют ВИА-шную эстетику, в первую очередь её наивно-радостный, мечтательно-романтический тон, но дополняют её более проработанным звуком, который ближе к психоделическим стандартам конца 60-х, чем это могли себе позволить сами ВИА (по какой бы то ни было причине). В процессе между советской арт-попсой и англоязычным арт-роком и фолком обнаруживаются новые (или, по крайней мере, укрепляются старые) переклички — скажем, связанные с (псевдо-?)фольклорной, сказочной эстетикой, не случайно же обложка альбома так отчётливо отсылает к Билибину.
К сожалению, это не та разновидность ретро-музыки, которая пользуется успехом в современной России — видимо, чтобы получить должное признание, авторам нужно было бы собраться где-нибудь в Мельбурне. Но на мой взгляд, «Певчие птицы в лесу берендеев» можно с лёгкостью и уверенностью поместить в топ-5 русскоязычных альбомов 2020-х.
21.04.202508:22
Из всех (почему-то удивительно многочисленных) экранных историй о папах римских и в частности о смертях старых и выборах новых понтификов хочется порекомендовать замечательный фильм Нанни Моретти Habemus Papam, где последнюю из десятков своих великих ролей сыграл Мишель Пикколи. Помнится, я посмотрел этот фильм ровно во время прошлого конклава — незабываемый был опыт.
12.05.202514:36
Одна из вещей, которые мы обсуждали с Максимом Селезнёвым в выпуске «Топ-3» о видеоэссе — работа британцев Росса Сазерленда и Чарли Шеклтона Stand By for Tape Back-Up. Я так и не понял, сошлись ли мы по вопросу того, стоит ли эту вещь вообще называть «видеоэссе» (на мой взгляд, нет), но точно сошлись в том, что это просто замечательное произведение.
Специфический «сюжет» этой работы — в том, что у Сазерленда имеется дедовская VHS-кассета, на которую записаны фрагменты фильмов («Охотники за привидениями»), сериалов (The Fresh Prince of Bel-Air), телепередач (британская вариация «Форта Бойяр») и рекламных роликов плюс-минус 1990-х годов. Основную часть фильма (?) мы ничего, кроме содержимого этой кассеты, и не наблюдаем — Сазерленд мотает её туда-сюда и рассказывает нам всякое-разное.
Выясняется, что однажды он лишился архива своих личных фотографий и (при трагикомических обстоятельствах) был вынужден смотреть и пересматривать эту кассету, чтобы не погрузиться в депрессию. Так он узнал, что случайная выборка стареющего телевизионного контента — и есть аналог фотоархива, в котором Сазерленд, при некотором усилии воображения, способен увидеть отпечатки собственной жизни.
(Изначально эта работа была чем-то вроде стендапа, в ходе которого Сазерленд лично показывал кассету публике, сражаясь с видеомагнитофоном; сценическое происхождение Stand By…, исповедальный тон и британский сеттинг делают эту вещь смутно похожей на мини-сериал «Оленёнок». К слову сказать, с экранной версией Сазерленду помогал Чарли Шеклтон, позже нашумевший с протестно-уорхоловским псевдофильмом «Сохнущая краска», но это уже другая история)
Тут надо сказать, что Stand By for Tape Back-Up я очень рекомендую к просмотру — но, к сожалению, только тем, кто хорошо понимает английский язык на слух. Если бы у этого фильма (?) были русские субтитры, не говоря уж об озвучке, это бы только мешало смотреть; английские субтитры не помешали бы, но их нет.
Дело в том, что в некоторые моменты вялый закадровый монолог Росса Сазерленда внезапно ускоряется, набирает напор, ритм… и превращается в нечто вроде хип-хопа. При этом плёнка продолжает мотаться туда-сюда, а между текстом «песен» и как бы случайными VHS-кадрами обнаруживаются внезапные переклички и соответствия, иногда просто феерически точные. Произведение, которое поначалу может произвести впечатление какой-то ленивой хоуммейд-мути, по факту оказывается просто филигранной работой — признать это не мешает даже то ли шотландский, то ли скаузерский говор Сазерленда.
Популярный ныне литературный автофикшн, насколько я понимаю, часто оперирует (если не сказать «злоупотребляет») деталями быта и физиологии, нащупывая суть происходящего в мире телесном и предметном. В Stand By for Tape Back-Up не без этого тоже — чего стоит яркий монолог автора о приступе астмы да и материальность самой кассеты — но этот фильм (?) делает противоположную и, на мой взгляд, очень важную штуку.
Сквозь телеэкран Сазерленд заглядывает обратно себе в голову и находит там… преломлённое изображение с самого телеэкрана, демонстрируя, на какой же огромный процент жизнь современного человека состоит из воображаемого, виртуального, а если и реального, то компрессированного на аудиовизуальном носителе.
Прелестная гибкость и ёмкость английского слова «dream» позволяет поставить перед этим фильмом (а впрочем, ещё чёрт знает перед сколькими вещами) эпиграф из песни:
You only live twice or so it seems: one life for yourself and one for your dreams.
Специфический «сюжет» этой работы — в том, что у Сазерленда имеется дедовская VHS-кассета, на которую записаны фрагменты фильмов («Охотники за привидениями»), сериалов (The Fresh Prince of Bel-Air), телепередач (британская вариация «Форта Бойяр») и рекламных роликов плюс-минус 1990-х годов. Основную часть фильма (?) мы ничего, кроме содержимого этой кассеты, и не наблюдаем — Сазерленд мотает её туда-сюда и рассказывает нам всякое-разное.
Выясняется, что однажды он лишился архива своих личных фотографий и (при трагикомических обстоятельствах) был вынужден смотреть и пересматривать эту кассету, чтобы не погрузиться в депрессию. Так он узнал, что случайная выборка стареющего телевизионного контента — и есть аналог фотоархива, в котором Сазерленд, при некотором усилии воображения, способен увидеть отпечатки собственной жизни.
(Изначально эта работа была чем-то вроде стендапа, в ходе которого Сазерленд лично показывал кассету публике, сражаясь с видеомагнитофоном; сценическое происхождение Stand By…, исповедальный тон и британский сеттинг делают эту вещь смутно похожей на мини-сериал «Оленёнок». К слову сказать, с экранной версией Сазерленду помогал Чарли Шеклтон, позже нашумевший с протестно-уорхоловским псевдофильмом «Сохнущая краска», но это уже другая история)
Тут надо сказать, что Stand By for Tape Back-Up я очень рекомендую к просмотру — но, к сожалению, только тем, кто хорошо понимает английский язык на слух. Если бы у этого фильма (?) были русские субтитры, не говоря уж об озвучке, это бы только мешало смотреть; английские субтитры не помешали бы, но их нет.
Дело в том, что в некоторые моменты вялый закадровый монолог Росса Сазерленда внезапно ускоряется, набирает напор, ритм… и превращается в нечто вроде хип-хопа. При этом плёнка продолжает мотаться туда-сюда, а между текстом «песен» и как бы случайными VHS-кадрами обнаруживаются внезапные переклички и соответствия, иногда просто феерически точные. Произведение, которое поначалу может произвести впечатление какой-то ленивой хоуммейд-мути, по факту оказывается просто филигранной работой — признать это не мешает даже то ли шотландский, то ли скаузерский говор Сазерленда.
Популярный ныне литературный автофикшн, насколько я понимаю, часто оперирует (если не сказать «злоупотребляет») деталями быта и физиологии, нащупывая суть происходящего в мире телесном и предметном. В Stand By for Tape Back-Up не без этого тоже — чего стоит яркий монолог автора о приступе астмы да и материальность самой кассеты — но этот фильм (?) делает противоположную и, на мой взгляд, очень важную штуку.
Сквозь телеэкран Сазерленд заглядывает обратно себе в голову и находит там… преломлённое изображение с самого телеэкрана, демонстрируя, на какой же огромный процент жизнь современного человека состоит из воображаемого, виртуального, а если и реального, то компрессированного на аудиовизуальном носителе.
Прелестная гибкость и ёмкость английского слова «dream» позволяет поставить перед этим фильмом (а впрочем, ещё чёрт знает перед сколькими вещами) эпиграф из песни:
You only live twice or so it seems: one life for yourself and one for your dreams.
Reposted from: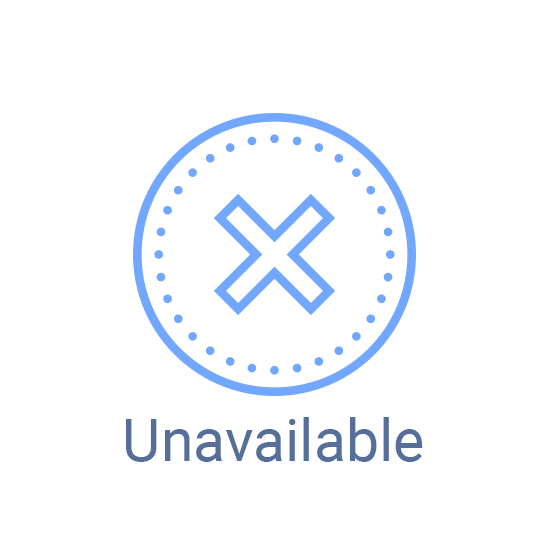 movie (never made) | канал о видеоэссе
movie (never made) | канал о видеоэссе
12.05.202514:37
Как видите из перепоста выше — я сходил в гости к замечательному Славе Иванову на подкаст «Топ-3». Повод для разговора Слава предложил чудовищно заманчивый — мои любимые видеоэссе. Легко догадаться, что выбрать всего три главных видео оказалось затруднительно, и в зависимости от дня/погоды/случая список мог бы меняться, но с другой стороны все получилось честно.
Кевин Ли с его видео про неиллюзорный шанс сойти с ума при просмотре Хон Сан Су — это главная рок-звезда экспериментальной эссеистики, из-за работ которого я впервые влюбился в формат лет 8 назад.
Йоханнес Бинотто с его коротким 2-минутным коаном о лице Джона Уэйна и природе кино — безоговорочно мой любимейший автор и дорогой друг, у которого получается делать самое главное: почти каждой своей работой изобретать что-то новое и удивлять.
А Росс Сазерленд... Вот с Россом Сазерлендом чуть сложнее. Stand By for Tape Back-Up — это сложноописуемое зрелище (собственно, на подкасте я осознал, что подвисаю, когда пытаюсь внятно рассказать, о чем эта работа). Росс Сазерленд предлагает нам посмотреть старую VHS-кассету, на которую он и его близкие когда-то записывали разное (от популярных фильмов типа «Охотников за привидениями» и «Челюстей» до телепередач и случайной рекламы), так что пленка сама собой превратилась во что-то вроде медиаархеологического и одновременно интимно-личного артефакта. И вот пересматривая эту кассету, постоянно перематывая ее Сазерленд в плавающей манере, раскачивающейся от исповедального стэндапа к фристайл хип-хопу, рассказывает об этапах своей жизни, об отношениях с ушедшим из жизни родственником, о призраках, живущих в вхс-глитчах.
Слава к выходу подкаста написал про Stand By отличный текст, где выразил сомнение в том можно ли назвать этот аудиовизуальный отрывок видеоэссеизмом. Я понимаю и даже приветствую такую подозрительность и отчасти ради такой реакции и предложил поговорить в подкасте именно о Сазерленде. Главным свойством эссеистики мне представляется как раз ее гибкость и способность к превращениям. Эссеистика — что-то вроде метаморфа из сай-фай вселенной. Пока вы на нее не смотрите, она может изменить облик и преобразиться во что-то completely different. Даже более того — эссеистика питает страсть к таким неожиданным трансформациям и ими подпитывается. Поэтому мне кажется крайне важным хотя бы временно впускать в круг видеоэссе такие истории как Stand By.
Безусловно, работа Сазерленда — это пограничная форма жизни. Что-то между дневниковым кино, личной документалистикой, поэтическим перформансом, сценической комедией (изначально Stand By был не записью, а живым выступлением, которое Росс устраивал в клубах). И в то же время он пользуется многими микроприемами, характерными для эссеистики, только находит для них непривычное звучание. Например, когда надолго останавливает кадр на комично-испуганном лице Билла Мюррея и сочиняет на его фоне рассказ о различии детского и взрослого восприятия кино. Или, когда внезапно разворачивает анализ первой сцены фильма «Челюсти».
Но сейчас я обращу внимание на одну деталь, про которую не сказал на подкасте и приглашу вас послушать не только наш разговор со Славой, но прежде всего прислушаться к голосу Росса Сазерленда. Даже если у вас нет времени или желания смотреть этот часовой этюд целиком — откройте ссылку и просто одну минуту послушайте как Сазреленд выговаривает слова. Как запинается, экает, всеми возможными способами сигнализирует о растерянности и уязвимости. Но необъяснимым (лично для меня) способом умудряется, пользуясь таким нестабильным инструментом, не просто рассказать очень многое, но и почти всегда попасть в нужный тайминг, сделать так, чтобы его неуверенные слова рифмовались с нужной картинкой. Такое сочетание — обнаженной неловкой субъективности и способности выражать внятные захватывающие мысли — и есть одно из лучших определений эссеистики для меня.
Кевин Ли с его видео про неиллюзорный шанс сойти с ума при просмотре Хон Сан Су — это главная рок-звезда экспериментальной эссеистики, из-за работ которого я впервые влюбился в формат лет 8 назад.
Йоханнес Бинотто с его коротким 2-минутным коаном о лице Джона Уэйна и природе кино — безоговорочно мой любимейший автор и дорогой друг, у которого получается делать самое главное: почти каждой своей работой изобретать что-то новое и удивлять.
А Росс Сазерленд... Вот с Россом Сазерлендом чуть сложнее. Stand By for Tape Back-Up — это сложноописуемое зрелище (собственно, на подкасте я осознал, что подвисаю, когда пытаюсь внятно рассказать, о чем эта работа). Росс Сазерленд предлагает нам посмотреть старую VHS-кассету, на которую он и его близкие когда-то записывали разное (от популярных фильмов типа «Охотников за привидениями» и «Челюстей» до телепередач и случайной рекламы), так что пленка сама собой превратилась во что-то вроде медиаархеологического и одновременно интимно-личного артефакта. И вот пересматривая эту кассету, постоянно перематывая ее Сазерленд в плавающей манере, раскачивающейся от исповедального стэндапа к фристайл хип-хопу, рассказывает об этапах своей жизни, об отношениях с ушедшим из жизни родственником, о призраках, живущих в вхс-глитчах.
Слава к выходу подкаста написал про Stand By отличный текст, где выразил сомнение в том можно ли назвать этот аудиовизуальный отрывок видеоэссеизмом. Я понимаю и даже приветствую такую подозрительность и отчасти ради такой реакции и предложил поговорить в подкасте именно о Сазерленде. Главным свойством эссеистики мне представляется как раз ее гибкость и способность к превращениям. Эссеистика — что-то вроде метаморфа из сай-фай вселенной. Пока вы на нее не смотрите, она может изменить облик и преобразиться во что-то completely different. Даже более того — эссеистика питает страсть к таким неожиданным трансформациям и ими подпитывается. Поэтому мне кажется крайне важным хотя бы временно впускать в круг видеоэссе такие истории как Stand By.
Безусловно, работа Сазерленда — это пограничная форма жизни. Что-то между дневниковым кино, личной документалистикой, поэтическим перформансом, сценической комедией (изначально Stand By был не записью, а живым выступлением, которое Росс устраивал в клубах). И в то же время он пользуется многими микроприемами, характерными для эссеистики, только находит для них непривычное звучание. Например, когда надолго останавливает кадр на комично-испуганном лице Билла Мюррея и сочиняет на его фоне рассказ о различии детского и взрослого восприятия кино. Или, когда внезапно разворачивает анализ первой сцены фильма «Челюсти».
Но сейчас я обращу внимание на одну деталь, про которую не сказал на подкасте и приглашу вас послушать не только наш разговор со Славой, но прежде всего прислушаться к голосу Росса Сазерленда. Даже если у вас нет времени или желания смотреть этот часовой этюд целиком — откройте ссылку и просто одну минуту послушайте как Сазреленд выговаривает слова. Как запинается, экает, всеми возможными способами сигнализирует о растерянности и уязвимости. Но необъяснимым (лично для меня) способом умудряется, пользуясь таким нестабильным инструментом, не просто рассказать очень многое, но и почти всегда попасть в нужный тайминг, сделать так, чтобы его неуверенные слова рифмовались с нужной картинкой. Такое сочетание — обнаженной неловкой субъективности и способности выражать внятные захватывающие мысли — и есть одно из лучших определений эссеистики для меня.
18.04.202506:56
Новость о грядущем новом релизе Stereolab пробудила волну добрых воспоминаний — о первом концерте их реюниона, на котором я побывал в 2019-м, о том, как я полюбил эту группу за несколько лет до этого, о том, как летом 2017-го садился в полночное такси и во время долгого пути из центра на окраину прослушивал большую часть альбома Emperor Tomato Ketchup.
Телеграм-коллега Дима Ханчин недавно так сформулировал об их Dots and Loops: «Это предел звукового совершенства, я слышал альбомы с более крутыми мелодиями или песнями, но не с более кайфовым звуком» — и очень может быть, он прав. Пластинка 1997 года соединяет в единую переливающуюся амальгаму звуки лаунджа, психоделии, краутрока, экзотики, эмбиента, спейс-эйджа — не утомляя, а развлекая, обнимая и обволакивая.
Более ранние альбомы — проще и прямолинейнее (хотя мне нравится даже дебютный Peng!, а уж как хорош Transient…). Более поздние меня всегда впечатляли в процессе прослушивания, но западали в душу лишь частично. Главным так для меня и остался прослушанный первым Ketchup — ещё не такой совершенный по звуку, но целиком состоящий из композиций-жемчужин.
Внизу — изумительно чёткие и механические барабаны почти бессменного Энди Рэмзи, который всегда осознанно напрашивался на сравнение с Яки Либецайтом из Can: никаких лишних страстей и ужимок, только строгая сетка бита. Как и в случае с Can, барабаны кое-где (скажем, в Les Yper-Sound) записаны и обработаны в психоделическом духе, дополнительно пошатывая привычное для ушей представление об их звучании. В довесок — лаконичная и статичная бас-гитара; простота и однозначность ритм-секции (что хорошо продемонстрировано в стартовом Metronomic Underground) очень чётко обозначает рамки игры — песочницу, внутри которой существует всё остальное.
Всё остальное — это, во-первых, гитары Тима Гейна (основного автора музыки), рокера по происхождению, здесь редко вылезающего на первый план, играющего, как правило, довольно простые аккорды, скрепляющие всю остальную палитру. Во-вторых, это буйство синтезаторов и органов — так или иначе кейбордистами на альбоме были шесть человек, иногда дорожки винтажных Moog’ов и Vox’ов накладываются друг на друга в таком неимоверном количестве, что при каждом новом прослушивании можешь случайно обнаружить новую, прежде проскочившую мимо радаров. При этом клавишные фразы просты и схематичны, но, дополняя друг друга, они срастаются в замысловатые узоры — если хотите, сравните это хоть с техно, хоть с колокольным звоном, хоть со Стивом Райхом и Терри Райли.
И самый верхний слой — вокальный дуэт Летисии Садье и Мэри Хансен — нежный и парящий, чередующий французский и английский языки. Как бы зефирно ни звучали эти женские голоса, тексты песен — о нет, опять! — являют собой антикапиталистические манифесты, размышления о власти, потреблении и масскульте.
Звучание Stereolab стабильно вызывает ретрофутуристические ассоциации: в качестве видеоряда для них подходят оп-арт и мультсериал «Джетсоны». Будучи, с одной стороны, одной из essential групп 90-х, Stereolab вещают откуда-то из пространства альтернативной истории, из неслучившегося будущего, в котором рок-музыка прокачивала не гитарное своё звучание, а органно-синтезаторное. Причём не в том направлении, где появились Kraftwerk, Yellow Magic Orchestra, спейс-диско, техно и большая часть дальнейшей электроники — то есть там, где синты так или иначе обыгрывали свою роботическую сущность, — а в том, где на клавиши нажимают не вполне профессиональные, глубоко несовершенные, обуреваемые эмоциями человеческие пальцы.
Stereolab 90-х — это прежде всего именно рок, в котором гитары и клавишные поменялись местами по степени заметности в панораме звука. Будучи на первый взгляд похожими на легкомысленное ретро-новелти вроде De-Phazz, при пристальном наблюдении Stereolab обнаруживают глубину, энергию и дикость, достойную The Velvet Underground, Talking Heads и Television.
Телеграм-коллега Дима Ханчин недавно так сформулировал об их Dots and Loops: «Это предел звукового совершенства, я слышал альбомы с более крутыми мелодиями или песнями, но не с более кайфовым звуком» — и очень может быть, он прав. Пластинка 1997 года соединяет в единую переливающуюся амальгаму звуки лаунджа, психоделии, краутрока, экзотики, эмбиента, спейс-эйджа — не утомляя, а развлекая, обнимая и обволакивая.
Более ранние альбомы — проще и прямолинейнее (хотя мне нравится даже дебютный Peng!, а уж как хорош Transient…). Более поздние меня всегда впечатляли в процессе прослушивания, но западали в душу лишь частично. Главным так для меня и остался прослушанный первым Ketchup — ещё не такой совершенный по звуку, но целиком состоящий из композиций-жемчужин.
Внизу — изумительно чёткие и механические барабаны почти бессменного Энди Рэмзи, который всегда осознанно напрашивался на сравнение с Яки Либецайтом из Can: никаких лишних страстей и ужимок, только строгая сетка бита. Как и в случае с Can, барабаны кое-где (скажем, в Les Yper-Sound) записаны и обработаны в психоделическом духе, дополнительно пошатывая привычное для ушей представление об их звучании. В довесок — лаконичная и статичная бас-гитара; простота и однозначность ритм-секции (что хорошо продемонстрировано в стартовом Metronomic Underground) очень чётко обозначает рамки игры — песочницу, внутри которой существует всё остальное.
Всё остальное — это, во-первых, гитары Тима Гейна (основного автора музыки), рокера по происхождению, здесь редко вылезающего на первый план, играющего, как правило, довольно простые аккорды, скрепляющие всю остальную палитру. Во-вторых, это буйство синтезаторов и органов — так или иначе кейбордистами на альбоме были шесть человек, иногда дорожки винтажных Moog’ов и Vox’ов накладываются друг на друга в таком неимоверном количестве, что при каждом новом прослушивании можешь случайно обнаружить новую, прежде проскочившую мимо радаров. При этом клавишные фразы просты и схематичны, но, дополняя друг друга, они срастаются в замысловатые узоры — если хотите, сравните это хоть с техно, хоть с колокольным звоном, хоть со Стивом Райхом и Терри Райли.
И самый верхний слой — вокальный дуэт Летисии Садье и Мэри Хансен — нежный и парящий, чередующий французский и английский языки. Как бы зефирно ни звучали эти женские голоса, тексты песен — о нет, опять! — являют собой антикапиталистические манифесты, размышления о власти, потреблении и масскульте.
Звучание Stereolab стабильно вызывает ретрофутуристические ассоциации: в качестве видеоряда для них подходят оп-арт и мультсериал «Джетсоны». Будучи, с одной стороны, одной из essential групп 90-х, Stereolab вещают откуда-то из пространства альтернативной истории, из неслучившегося будущего, в котором рок-музыка прокачивала не гитарное своё звучание, а органно-синтезаторное. Причём не в том направлении, где появились Kraftwerk, Yellow Magic Orchestra, спейс-диско, техно и большая часть дальнейшей электроники — то есть там, где синты так или иначе обыгрывали свою роботическую сущность, — а в том, где на клавиши нажимают не вполне профессиональные, глубоко несовершенные, обуреваемые эмоциями человеческие пальцы.
Stereolab 90-х — это прежде всего именно рок, в котором гитары и клавишные поменялись местами по степени заметности в панораме звука. Будучи на первый взгляд похожими на легкомысленное ретро-новелти вроде De-Phazz, при пристальном наблюдении Stereolab обнаруживают глубину, энергию и дикость, достойную The Velvet Underground, Talking Heads и Television.
12.05.202514:37
И вот пара слов об этой же вещи от самого Максима — но немного с другого угла:
Log in to unlock more functionality.