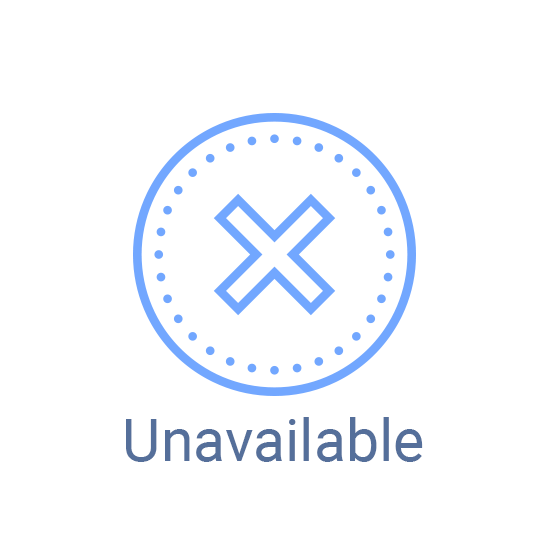Музыка — своеособая жестикулатура, нанизанная на апорию (шашлык из сашими): движение одновременно внутрь и за пределы себя, раздерганное перемещение не в пространстве, а самого пространства относительно неизвестно чего, когда музыка перестает выражать самое себя, быть формой и звучанием. Если вознамериться описать ее кратко, нужно сказать так: композитор — влюбленный в звук, тот, кто осмелился сделать звучание и паузу формой размышления и саморазмышлением формы, действенным трепетанием недвижимого и бестрепетного.
Мысли не существует без аффекта, ярого проявления чувства. Мышление, тем более в музыкальной форме, есть наркотизация. Хотя навязывается обратное представление. «Аз есмь» — это и есть «суть», наиболее первомузыкальная фраза. Не «пробуждение» или «отрезвление», но первый и последний знак опьянения («Мне отмщенье, и Аз воздам»). Тут же растворяющийся в делирии пьянчуги.
Верховным концептом философии музыки является ритуал — не просто повторение формулы, мелос, лад, партитура, но живое, трепещущее, ажитированное обращение к безначальному творческому жесту. Издания звука, даже и физиологического. Концепт — это, в самом же деле, диссонанс, словцо опошлено и не состоятельно. Лучше сказать — истончение гущи момента. The thick of it. Вместо «чтойности» (quiditas) — ничтожащаяся некоесть. В музыке, если повезет, и музыка хороша или дурна собой, посредственна или непосредственна, природна, со- или иноприродна, звучание пресуществляется в свитие («событие» на философическом арго), в котором переживание времени изломано и преобразовано (изжевано) в бесконечную череду сочиненных «сейчас», которые есть не что иное, как вспышки подлинности. Сущее — это яичница, бытие — это жаровня, время — температура на сковородке. Звук не только обозначает движение и им является, но и существует как момент вне этого движения — как бы подвешенный в некоей среде-взвеси, хрупкий и весомый, вешущий нечто, способный в любой момент обрушиться в пустоту и обрести невесомость, пущую пущу, и умолкнуть. Музыкальное время не сводится к физике звука, оно сродни метафизике мгновения: оно приходит и всегда, разномгновенно, преходит.
Другим компонентом «философского мышления» выступает дистанция. Разъятие и отстояние. Музыка — крайняя форма отчужденности. Композитор-сочинитель всегда испытывает отчуждение. На крайний случай — от тишины, незыблемости незвука. Любой, кто заигрывает с публикой, немузыкален. Заигрывает посредством игры, чеса по струнам, чахотки легкого и тяжкого.
Есть проблема жанра, сводимая к проблеме публики. Проблема повторения без различия. Проблема жанра и формы взыскует насилия. Музыка — это и есть насилие над восприятием (вспомните первое впечатление на первом рок-, рэп- или любом ином концерте — все утрировано-чрезмерно, даже если это венок фортепьянных сонат, пытка временем-ожиданием). Она — и самое популярное в мире, и самое ненавистное, в смысле противоестественного. Музыка — апофеоз неестественного, и нет ничего пошлее-недоделанней, чем «музыка волн», <strike>музыка сфер</strike> или «музыка лесной чащи». Такой музыки нет, ибо музыка is Man-Made. Она завсегда по-плотски человечна.
Стравинский показал, как музыкальное произведение (математические метафоры) может быть философским жестом, существующим на стыке разнузданной жестокости и сдержанной утонченности, запекшегося сукровка и приторного рафинада, звериной энергии мастера и машинальной дисциплины мастерской. Стравинский (а не Литл Ричард, Чак Берри или Бадди Холли) породил Джона Леннона. В этой «музыке» звучит голос, неуверенной в собственных основаниях, разрываемой протизвучиями, стремящейся к и страшащейся себя самой и всеустрашающей музыки.